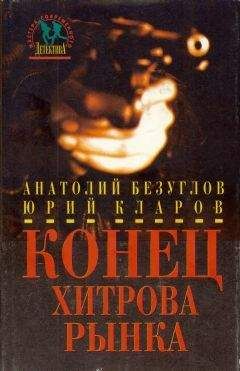Ознакомительная версия.
Анатолий Безуглов, Юрий Кларов
Я верю в призвание поэта, инженера, музыканта, агронома. Но в словах «прирожденный солдат» или «сыщик» мне всегда чудится фальшь. Может быть, я ошибаюсь, но ведь солдат по призванию должен любить убивать, а работник уголовного розыска — копаться в социальной грязи, отбросах, получать удовольствие от общения с людьми с искалеченной психикой и извращенными взглядами на жизнь. И вот сейчас, сидя за письменным столом, я невольно перебираю в памяти всех, с кем мне приходилось работать бок о бок в 1918–1919 годах. Кто из них был сыщиком по призванию? Виктор Сухоруков? Нет, он мечтал стать механиком и даже тогда находил время для учебников по математике и физике. Груздь? Сеня Булаев? Даже знаменитый Савельев, проработавший около двадцати пяти лет в сыскной полиции, тяготел к специальности, которая не имела ничего общего с его повседневными обязанностями. Часами он возился с коллекцией насекомых. В его квартире ширмой был отгорожен специальный угол, где хранились коробки, банки и ящики с пауками, бабочками, жуками. Савельев мечтал о том времени, когда, выйдя на пенсию, он наконец сможет без всяких помех сесть за монографию о жизни скорпионов, которая должна была обессмертить в науке его имя…
Но все мы оказались сотрудниками Московской уголовно-розыскной милиции и добросовестно выполняли свой долг, потому что так было нужно. В то время токари становились директорами банков, вчерашние мастеровые возглавляли заводы, а солдаты командовали армиями…
Октябрьскую революцию я встретил гимназистом выпускного класса Шелапутинской гимназии. Я готовился к поступлению на филологический факультет, но филологом я не стал, а гимназию так и не окончил.
В тот день первым, должен был быть урок французского языка. Но неожиданно вместо мосье Боруа в дверях появилась тощая фигура директора гимназии Шведова.
Класс неохотно встал.
— Садитесь, господа, садитесь! — махнул рукой Шведов и с обычной кислой улыбкой, за которую его прозвали Лимоном, стал вглядываться в настороженные лица гимназистов. По тому, как Лимон вертит в руках взятый со стола кусочек мела, видно было, что он волнуется.
— Господа! — торжественно начал он. — По поручению педагогического совета я уполномочен сделать вам важное сообщение…
— Раз поручили, валяй! — снисходительно поощрил чей-то голос.
Шведов сделал вид, что ничего не слышал: после Февральской революции дисциплина в гимназии, особенно в старших классах, основательно расшаталась. Гимназисты как само собой разумеющееся предлагали преподавателям закурить. Замок карцера, которым теперь не пользовались, заржавел, а самой гимназией фактически правил совет учащихся, вмешивавшийся во все без исключения дела.
— Господа! — повторил Шведов. — Вы надежда отечества…
— Ого! — искренне восхитился тот же голос.
Но на него зашикали.
— Вы новое поколение русской интеллигенции, которая имеет вековые традиции служения своему народу. И я не сомневаюсь, что вы меня поймете. Произошла трагедия. Мы с вами переживаем трудное время, когда грубо попираются принципы гуманности и свободы.
Германские агенты, щедро финансируемые императором Вильгельмом, не только сеют в умах смуту, но и пытаются навязать многострадальному русскому народу кровавую диктатуру.
По классу прошел гул. Называть большевиков германскими агентами не стоило. В эти сказки никто уже не верил. Шведов почувствовал свою ошибку. Но менять стиль речи уже было поздно.
— Сейчас, в эту минуту, — продолжал он, — когда я беседую с вами, вожди русской демократии томятся в большевистских застенках, исторические залы Зимнего дворца подвергаются разграблению, фронт деморализован, скоро враг будет здесь, в центре России. И я понимаю чувства поэта-патриота, который пишет:
С Россией кончено. На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях…
В классе зашумели. Поднялся председатель совета гимназии Никольский, спокойный, медлительный.
— Господин Шведов, — официально обратился он к директору, — нам ваши политические взгляды известны, и они нас не интересуют. Насколько мы вас поняли, вы собирались сделать нам сообщение?
— Вы меня правильно поняли, — сухо подтвердил Шведов, — но я хотел предварительно объяснить вам мотивы, которыми руководствовался педагогический совет, решивший не сотрудничать с большевиками, узурпировавшими государственную власть. По призыву Всероссийского учительского союза преподаватели нашей гимназии с сегодняшнего дня объявили забастовку протеста.
— Меня удивляет… — начал было Никольский, но его прервал Васька Мухин, здоровенный детина, уже второй год отбывавший повинность в восьмом классе.
— Тоже испугал! — пробасил он, поглядывая маленькими смешливыми глазками на директора. — По мне хоть всю жизнь бастуйте!
— Ура! Да здравствует вечная забастовка! — неожиданно заорал его сосед, и весь класс задрожал от хохота.
Ошеломленного директора проводили криком и улюлюканьем. Кто, подвывая, отбивал кулаками на парте «Цыпленка жареного, цыпленка пареного, который тоже хочет жить», кто хрюкал, а кто от избытка восторга просто стучал ногами по полу.
В дверях показалось испуганное лицо классного надзирателя и сразу же исчезло.
Так эта новость была встречена почти во всех классах. Последние месяцы жизнь гимназии все равна шла кувырком. Преподаватели опаздывали на уроки и ничего не задавали на дом. Старшеклассникам было не до занятий: они беспрерывно бегали с одного митинга на другой или до хрипоты спорили в различных кружках и клубах, недостатка в которых не было. Союзы, группы, общества и объединения возникали как грибы после дождя. Существовали «Союз учащейся молодежи», «Общество нанимателей комнат, углов и коек», «Группа обывателей Хамовнического района», «Союз домовладельцев», «Союз киновладельцев», «Объединение дворников и домашней прислуги».
Наша гимназия тоже не отставала. Помимо совета гимназии у нас был совет учащихся старших классов, совет учащихся младших классов и многочисленные «политические фракции»: большевиков, кадетов, эсеров, анархистов и, наконец, монархистов, в которую входили только двое — франтоватый Николай Пилецкий и его друг Разумовский, дегенеративный парень с красной физиономией, усыпанной угрями.
Каждая фракция требовала себе мест в гимназических советах. Иногда накал политических страстей доходил до потасовок, во время которых больше всего, разумеется, доставалось самой малочисленной фракции — монархистам. Пилецкий и Разумовский постоянно ходили с синяками и перед самой забастовкой преподавателей смалодушничали — подали заявление о приеме в фракцию кадетов. Особенно терроризировал педагогов совет гимназии, который предъявлял им самые жесткие требования. Одним из них было — ставить в балльниках двойки и единицы только с санкции совета. Членов советов к доске не вызывали: преподаватели прекрасно понимали, что заниматься наукой у Них просто нет времени.
Какая уж тут учеба!
Но все-таки, когда мы с Никольским вышли в переулок, мы не думали, что навсегда покидаем стены гимназии.
Никольского больше всего возмущало, что педагогический совет принял свое решение без консультации с советом гимназии.
— Им это дело так не пройдет, — говорил он, размахивая офицерской полевой сумкой, приобретенной на толкучке (большинство старшеклассников в знак всеобщей свободы ходило в гимназию не с ранцами, а с портфелями или полевыми сумками). — Мы созовем общее собрание фракций. Думают, что мы до них не доберемся? Ошибаются!
Но ошибался Никольский: фракции больше никогда не собирались, а в гимназии вскоре расположился ревком. Из бывших своих преподавателей я потом встретил только Лимона. Когда мы в двадцатом году вылавливали спекулянтов на Смоленском рынке, я заметил за одним из ларьков притаившуюся сухопарую фигуру в залатанных солдатских штанах.
— А ну, выходи!
Человек нерешительно выглянул, и внезапно на его худом грязном лице промелькнуло подобие знакомой улыбки. Это был Лимон.
— Ничего не поделаешь, надо жить! — развел он руками и, зажав сверток под мышкой, воровски шмыгнул в проходной двор.
Многие из моих гимназических товарищей, спасаясь от голода, уехали на юг, кое-кто вместе с родителями бежал за границу. Члены фракции монархистов — Пилецкий и Разумовский, как мне потом рассказывали, перебрались к генералу Корнилову.
IIВ семнадцать лет, когда голова переполнена грандиозными замыслами, а руки сами ищут себе работы, сидеть без дела трудно. Между тем я совершенно не знал, куда себя девать. С закрытием гимназии как-то оборвались все ниточки, которые меня связывали с товарищами по классу. Раньше, казалось, водой не разольешь. Но кончилась гимназическая жизнь, и у каждого оказались свои заботы, дела. Никольский устроился где-то делопроизводителем. Мухин отправился к отцу в Саратов. Гимназическое содружество рассыпалось как карточный домик, и иногда я даже сомневался, а было ли оно вообще когда-нибудь.
Ознакомительная версия.