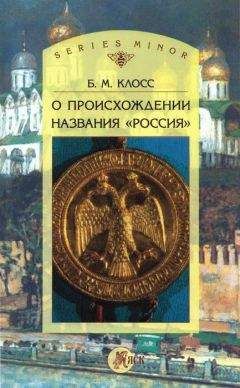Глазов Григорий
Без названия
Григорий ГЛАЗОВ
1
На международном престижном аукционе фирмы "Глемб энд бразерс" разразился скандал. Суть его, по публикациям в западной прессе, сводилась к следующему: за полтора миллиона долларов анонимным покупателем была приобретена выставленная на аукционе золотая миниатюрная табакерка работы выдающегося русского ювелира Георгоса Диомиди (родился в 1895 году, умер в 1950-м). Через неделю после продажи табакерки владелец американской ювелирной фирмы и сети ювелирных магазинов Кевин Шобб собрал журналистов и на пресс-конференции заявил, что искусно выполненная табакерка, которую без натяжки можно считать произведением искусства, на самом деле исполнена не Диомиди, а является прекрасной подделкой, на ней стоят фальшивые клейма. К экспертизе Шобб настоятельно рекомендует привлечь среди прочих и господина Модеста Гилевского, известного в кругу искусствоведов и специалистов, авторитетнейшего знатока ювелирного дела в дореволюционной России, особенно работ Георгоса Диомиди.
Скандал этот, разумеется, был значим лишь для небольшого круга людей; тревоги и заботы глобального порядка терзали мир: войны в разных его точках, неубранные тела убитых солдат, женщин и детей, сгоревшие в пожарах жилища и храмы, наводнения и землетрясения, стоны и плач тысяч обезумевших от горя и ужаса людей...
Спустя какое-то время о скандале забыли, он уступил место другим сенсациям-однодневкам.
И все же история эта имела свое продолжение в городе, отстоявшем от эпицентра события за тысячи верст, а если еще сузить пространство, то - в местном музее этнографии и художественного промысла, где в кабинете заведующего отделом рукописей и спецфондов Модеста Станиславовича Гилевского собрались журналисты, уговорившие хозяина кабинета на краткую пресс-конференцию. А повод для этого был: доктор искусствоведения Гилевский приглашен в Филадельфию, чтобы выступить в качестве официального эксперта на судебном процессе, который именуется "Фирма Глемб энд бразерс" против Кевина Шобба..."
Кабинет Гилевского был небольшой тесной комнатой, сплошь уставленной по периметру застекленными шкафами, высокими тумбами с картотечными ящиками, у окна втиснут заваленный бумагами письменный стол, в углу возвышался старинный коричневый сейф, дверь его тяжела, как пласт времени, которое он пережил, и украшена бронзовым литьем в виде головы слона, видимо, символизировавшего силу. Наверху полукругом шли бронзовые буквы "Густав Шлезингер. Штуттгарт. 1912". В глубине комнаты виднелась дверь, обитая железом и запертая на раздвижную решетку. Открыть ее имел право либо сам Гилевский, либо кто-нибудь из сотрудников (да и то лишь избранные), но обязательно с разрешения Гилевского, которое, впрочем, требовалось даже для того, чтобы войти в его кабинет, на двери которого висела табличка "Посторонним не входить". А за той железной дверью и находилась святая всех святых - несколько помещений, где хранились самые драгоценные рукописные фонды, там же были и запасники; в помещения эти редко кто допускался. Сорок лет здесь властвовал Модест Станиславович Гилевский, и установленный им давным-давно порядок сей изменить никто не мог, хотя кое у кого из сотрудников музея и возникал внутренний протест против подобной деспотической власти Гилевского, устоявшейся на его авторитете...
Нынче же особая музейная тишина кабинета была пробуждена голосами журналистов, ослеплена вспышками блиц-лампы фотокамеры. Он не пустил всю эту братию в глубину кабинетика, а держал оборону почти у самой входной двери. Никто из сотрудников на эту летучую пресс-конференцию не был приглашен. Репортеры же вторглись почти явочным порядком и уже на месте уговорили хозяина кабинета ответить на вопросы. Они застигли его, когда он собирался в дорогу, просматривал какие-то бумаги. Он стоял перед ними раздраженный, суровый - высокий сухощавый человек с совершенно лысым глянцевым черепом, глаза внимательные и настороженные не выказывали ничего, кроме желания поскорее избавиться от этих людей, нагрянувших не вовремя и как бы заставших его врасплох. Поэтому и отвечал на их вопросы кратко:
- Судьба Диомиди, вернее его творений, трагична. Мы точно не знаем, сколько шедевров он создал. По каталогу числится двадцать девять. Все они рассеяны по миру. В первые годы после революции часть его произведений была переплавлена просто в куски золота, что-то продано за рубеж советской власти нужны были деньги, какая-то часть похищена. А изделий его должно быть не меньше сотни... Вот, господа, все, что я знаю. А вы требуете, чтоб я фантазировал, измышлял... Что? А... Предки его, греки-киприоты переселились в Россию в начале XVII века... Мы ведь и Фаберже считаем русским мастером...
Слава Гилевскому была не нужна, в определенных пределах она уже обласкала его за те сорок лет, что он провел в стенах этого трехэтажного старинного здания, она вышла за порог музея давно, наградив его авторитетностью в среде коллег в разных городах. Сорок лет назад он пришел сюда молодым человеком - образованным, начитанным, жадным к знаниям, избравшим предметом своих интересов творчество таких художников-ювелиров, как Бенвенуто Челлини, Фаберже, Диомиди. За эти сорок лет он защитил кандидатскую и докторскую, быстро поднимаясь по ступеням карьеры. Ему неоднократно предлагали должность директора, но он отказывался, всякий раз ограничиваясь фразой: "В этом кабинете кончается степень моей компетентности; на следующем уровне начнется профанация..."
- Простите, господа, я сказал все, что мог. Больше времени для вас у меня нет. Кое-что надо подготовить к этой поездке, - и не уточнив, что именно, он развел руками. - А времени в обрез - две недели.
Репортеры удалились...
2
Величественное здание музея этнографии и художественного промысла занимало полквартала. Построено оно было в конце XIX века и являло собой не худший образец венского псевдоренесанса; огромные окна, верхняя часть которых застеклена витражами, красивая лепнина, над тяжелой двустворчатой металлической входной дверью небольшая ниша с фигуркой Божьей Матери, ребристый купол над зданием венчал бронзовый святой Георгий Змееборец, поражавший гада копьем. Пол в большом, как зала, холле был устлан белыми мраморными плитами, влево и вправо дугой уходили вверх широкие мраморные лестницы; там, на втором этаже, и начинались экспозиции музея. В глубине же здания, на третьем этаже, размещались кабинеты дирекции, научных сотрудников, канцелярия. Великолепие холла портила фанерная конторка, где сидела вахтерша, продававшая по совместительству входные билеты.
В начале седьмого вечера вахтершу обычно сменял сотрудник вневедомственной охраны. Вдвоем они обходили все залы, включали сигнализацию, вахтерша уходила домой, а охранник, заперев изнутри входную дверь, оставался до утра, включив сигнализацию и на входной двери.
Так было и в этот раз.
- Сотрудники все ушли, - сказала вахтерша. - Ключи на месте, - она указала на висевшую доску с ячейками, где покоились ключи от кабинетов. У себя только Гилевский. Он обычно уходит после семи. Спешить старику некуда, одинокий, - она собрала свою сумку и попрощалась.
Без четверти восемь охранник запер входную дверь, ключ оставил в замке, сигнализацию включать не стал, поскольку в здании находился еще один человек - Гилевский, выложил из большого пластикового пакета еду и термос с чаем. Прошло еще полчаса. Ему не терпелось, хотелось основательно все запереть, сесть за свежий еженедельник "Экспресс", почитать, затем поужинать, дочитать "Экспресс" и, наконец, улечься на старый кожаный диван с продавленными подушками, стоявший в глубине холла за каморкой. Он медленно поднялся по широким лестничным маршам на третий этаж, прошел по коридору, свернул в безоконный, обычно сумеречный, а сейчас вообще темный закоулок, ведший к двери кабинета Гилевского. Он помнил, что перед дверью есть еще три ступеньки, осторожно, чтоб не промахнуться, шаркая, нащупал их ногой, и приблизившись к двери, постучал. Но никто не отозвался. Постучал сильнее и выждав с минуту, приоткрыл дверь, на которой висела табличка "Посторонним не входить..."
Говорят, "засиделись допоздна". Но к людям, работавшим в этом здании, подобная фраза отношения не имела, поскольку рабочий день здесь длился столько, сколько нужно было начальству и делу. А называлось это здание "Областное управление внутренних дел". В половине девятого вечера в одном из кабинетов сидели двое: заместитель начальника управления полковник Проценко и старший оперуполномоченный майор Джума Агрба. Уже были подведены итоги дня. Проценко сказал:
- Ты что себе думаешь, Джума? Ты хоть в зеркало смотришься? Погляди на себя в профиль! Отдадим приказ: у входа в управление поставить весы, каждый раз Агрбу взвешивать, каждый день он должен убывать на полкилограмма. Ты посмотри на свой живот! Разве это живот сыщика?! Это же брюхо беременной на седьмом месяце!