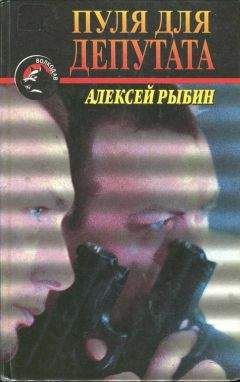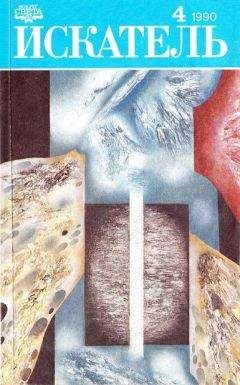Алексей Рыбин
Пуля для депутата
Игорь Андреевич Маликов любил Питер. Правда, бывать на невских берегах в последнее время ему приходилось не часто и все больше по делу, так что на «погулять» времени не хватало совсем. «Гулял» он в Москве, «гулял» и в Америке, и в Европе, в родном же городе — никак не удавалось.
А отдохнуть Маликову в Петербурге было где и с кем. В Ленинграде он родился, окончил школу, потом — Политехнический институт, несколько лет работал, на Металлическом заводе, имел массу друзей, с которыми и сейчас с радостью встретился бы, вспомнил бы молодость, благо парнем он слыл компанейским: ему было что вспомнить из студенческой своей, полной быстрых романов, безудержных пьянок в общаге и прочих безобидных легких приключений ленинградской жизни.
Вторая жизнь, та, которой он жил сейчас, после того как переехал в столицу, была не менее насыщенной событиями, но уже далеко не такой безалаберной и разудалой. Совсем даже не безалаберная жизнь. Хотя то, что он мог теперь себе позволить во время краткосрочных каникул где-нибудь на Крите или во Флориде, раньше даже в голову не могло прийти Игорю Маликову — общительному, симпатичному студенту, не блиставшему в учебе, но настолько обаятельному, что многие преподаватели, выставлявшие ему на экзаменах «удовлетворительно», почему-то иной раз приводили его в пример другим, более способным и сообразительным студентам.
«Вот, Маликов, — говорили они. — Не гений. Совсем не гений. Но упорство, трудолюбие — это у него есть, ничего не скажешь. А это очень важно. Не менее важно, чем наличие таланта. Поучились бы все у него! Почему человек может в срок сдавать курсовые, а вы — нет? Почему он все делает аккуратно, чисто, почему у него всегда конспекты всех лекций? А? Мил человек, на одном таланте далеко не уедешь! Работать надо. Поучитесь у своего товарища».
Однако преподаватели недооценивали Маликова. Он еще в школе понял, что хорошо учиться — это очень просто: школьная программа, равно как и институтская, на самом деле — примитив. И для того, чтобы не вылететь за борт, не скатиться до двоек и пересдач сессий, нужно всего-навсего регулярно заглядывать в учебник, а еще лучше — писать конспекты на лекциях.
Механическая память — великая вещь. Маликов записывал то, что говорили профессора, и ему больше не нужно было ничего повторять — в памяти намертво отпечатывались все формулы и логические выкладки. Что же касается мелочей, то он их опускал, зная отлично: на экзамене достаточно будет показать так называемый «общий уровень», убедить профессора, что студент понимает, о чем идет речь, и что он владеет предметом — для «уда» этого вполне достаточно. А большего Маликову и не нужно было.
Основной причиной его пребывания в институте являлось нежелание служить в армии. Так какая разница: «отлично» ему пишут в зачетке или «удовлетворительно»? Главное — чтобы не выперли коленом под зад и не забрили в солдаты.
Маликов быстро понял: для того чтобы обеспечить себе хорошую карьеру, вовсе не обязательно блистать знаниями. Тут, какими способностями не обладай, все равно ночи напролет придется просиживать — над курсовыми, над чертежами (которые он ненавидел больше всего, поскольку они отнимали больше всего времени), из-за зубрежки перед сессиями. А ведь достаточно иметь крепкий средний балл, и тебя никто не будет трогать. Используй себе свободное время для более интересных занятий — вместо того, чтобы убивать его в библиотеках и трепать нервы, гадая, напишет экзаменатор в зачетке «уд» или «отл». Да хоть «неуд»! Всегда можно пересдать, лишь бы не выгнали.
Вот общественная работа — это дело иное. Здесь можно потрудиться. Здесь можно и с душой подойти, всего себя вкладывая, — не жалко! Отдача-то идет, идет, и авторитет нарабатывается и — неожиданно! — денежки в кармане появляются… Дураки те, кто считает общественную работу обузой. Маликов в качестве комсорга развил в институте такую бурную деятельность, что сокурсники только удивлялись, как это удается парню и устраивать дискотеки, и проводить КВНы, и организовывать спортивные соревнования, и доставать билеты на престижные, редкие концерты зарубежных эстрадных звезд? Перестройка еще не грянула, и цензура свирепствовала вовсю.
Только не для Маликова. Он быстро сделал эту «общественную работу» своим основным делом и считался в институте незаменимым организатором. Через несколько лет его бы назвали талантливым менеджером, но в семидесятые это слово было еще не в ходу.
А что до цензуры — какая может быть цензура для комсомольских активистов?
У Маликова, одного из первых среди своих сверстников, появился видеомагнитофон: в самом начале восьмидесятых это была страшная редкость. На «видео» тогда ходили как в кино, как в театр — компаниями, договариваясь заранее. Многие устраивали у себя дома платные показы, и молодежь ломилась к кому-нибудь из знакомых в гости на «Крестного отца» или «Последнее танго в Париже», прихватывая с собой выпивку, закуску и по трешечке-пятерочке с носа для гостеприимного хозяина.
Дело, конечно, противозаконное со всех точек зрения, даже если отбросить в сторону чудовищную советскую цензуру, которая невинную «Греческую смоковницу» считала порнографией, достойной нескольких лет тюрьмы, — платные просмотры домашнего «видео» не поощрялись законодательством ни в одной из развитых стран… Поэтому Маликов и несколько его особо приближенных, подвизавшиеся в доживающей последние золотые свои денечки комсомольской народной дружине, не чувствовали ни малейших угрызений совести, разоряя подпольные видеосалоны почти на законных основаниях.
Сказать здесь «почти» — очень уместно: Маликов даже сейчас морщился, когда вспоминал о своих флибустьерских налетах на квартиры ушлых владельцев видаков.
Благодаря своей коммуникабельности Маликов завел множество знакомств в милиции, под патронажем которой и проводились все рейды комсомольских дружин. Очень быстро он выяснил, что судьба конфискованных видеокассет покрыта не то чтобы туманом, а прямо-таки непроницаемым мраком. Это же касалось иной раз и дорогущих видеомагнитофонов, аудиотехники, если удавалось доказать, что она используется для тиражирования с целью продажи, а также фирменных дисков, книг, изданных за рубежом и провезенных через таможню на дне дипломатических чемоданов или под полами пиджаков.
Часть конфискованных «вещдоков» шла в дело, фигурировала в судах и направлялась, как принято было говорить тогда и как говорят сейчас, «в доход государства». Но иной раз с хозяином проводилась душеспасительная беседа, и он просто жертвовал малым, чтобы не потерять большего. Другими словами, лучше уж лишиться видака, кассет или дисков, но зато остаться на свободе.
С компанейским Маликовым, всегда готовым оказать услуги самого разного свойства, что-то достать — от «палки» копченой колбасы до билета в «Октябрьский», от путевки в Геленджик до финского пиджака, — менты делились. Тем более что большинство налетов на подпольных «видюшников» происходило по его наводке. Не прикармливать такого смышленого паренька было бы просто глупо.
Зарабатывал он и летом, получая уже «живые» и, можно сказать, законные деньги в стройотрядах. Излишним будет упоминать о том, что Маликов являлся одним из командиров студенческих бригад и занимался выбором объектов и распределением работ. Постепенно в стройотряды влились помимо студентов и наиболее крепкие и легкие на подъем представители преподавательского состава и администрации института. А Маликов уже решал вполне «взрослые» вопросы с председателями колхозов и начальниками строительства какого-нибудь таежного поселка, завода или фермы. Уровень прорабов он уже прошел, сам таскал бревна все реже, больше для виду: чтобы товарищи не обижались и не считали его «зажравшимся начальником».
Товарищи, однако, были далеко не глупыми людьми и сами как-то постепенно вытеснили его из трудового процесса, мягко отстранили от физических работ.
«Ты, Маликов, лучше деньги считай, — сказали товарищи. — Больше пользы будет. Ты у нас — голова! Бревна таскать каждый может. Ты давай ищи нам подряды повыгодней».
Понятие «коррупция» в те годы (как и многие другие понятия, вошедшие в обиход после начала перестройки) применялось лишь по отношению к странам капиталистическим, к Западу, с его безработицей, угнетением трудящихся, нарушением прав человека и прочее, и прочее — вместе со всей остальной лапшой, которую вешала на доверчиво подставляемые уши советских граждан отечественная, крепкая, добротная, за долгие годы советской власти выверенная и отточенная пропаганда.
Однако коррупция — это было именно то, чем занимался в институте Маликов. Неожиданно для всей администрации он повязал руководителей института путами покрепче всяких веревок, и даже цепей, сделав самого себя незаменимым и важным. Не таким, конечно, важным, как ректор или как декан факультета, но ведь и ректор был охвачен его деятельностью, и декан, не говоря уже о более мелкой сошке…