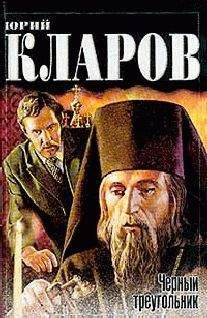Ознакомительная версия.
Скосив пулеметным огнем сотен тачанок негнущиеся цепи прославленных дроздовцев, конные полки батьки шашками прорубали себе кровавую дорогу.
Махновцы заняли Синельниково, Александровск, Гуляйполе…
Батько лишний раз доказал, что он – сила, с которой нельзя не считаться.
Вскоре в Харьков прибыла официальная делегация Реввоенсовета «Революционной повстанческой армии Украины», как высокопарно именовали себя махновцы.
Первый этап переговоров прошел довольно быстро и завершился подписанием документа, в котором черным по белому значилось, что «повстанческая армия махновцев решила прекратить вооруженную борьбу с Советским правительством, установив с ним военно-политическое соглашение в целях разгрома отечественной и мировой контрреволюции».
Повстанческая армия поступала в оперативное подчинение Советскому командованию Южного фронта, «сохраняя внутри себя установленный распорядок».
О состоявшемся соглашении махновцы обязались «довести до сведения идущей за ними трудовой массы путем соответствующих воззваний с призывом о прекращении враждебных действий против Советской власти». Махно также обещал не принимать к себе тех, кто дезертировал из рядов Красной Армии.
Советская сторона в свою очередь амнистировала осужденных анархистов и прекращала всякого рода их преследование, за исключением, разумеется, тех, кто пытался доказать свою правоту с оружием в руках и динамитной бомбой в кармане.
Анархистам, если они не призывали к насильственному свержению существующего строя, предоставлялись полная свобода пропаганды и агитации, участие в выборах в Советы. Семьи махновцев в получаемых от государства льготах приравнивались к семьям красноармейцев.
Так октябрь тысяча девятьсот двадцатого года стал на Украине месяцем союза большевиков и анархистов, которых представлял бывший пастушок, бывший маляр, бывший политкаторжанин, бывший красный комбриг, а ныне ярый ненавистник Советской власти – Нестор Махно, мечтавший водрузить в Париже черное знамя анархии и вскоре оказавшийся там в положении третьесортного эмигранта из Советской России…
В устойчивость и длительность заключенного в Харькове соглашения не верил никто: ни командующий Южным фронтом Фрунзе, ни Махно, ни Врангель…
«Означает ли это соглашение разочарование махновцев во всем их прошлом и полную покорность их Советской власти? – риторически вопрошали анархисты в своей газете «Голос махновца» и тут же сами себе отвечали: – Совсем нет… Не далек тот день, когда махновцы выйдут на арену кровавой борьбы с Соввластью».
Еще более откровенно высказывался на митингах в театре «Миссури» представитель Махно в Харькове Дмитрий Попов, тот самый Попов, который в восемнадцатом году грозился за «Марусю Спиридонову» снести огнем своей артиллерии пол-Кремля, а в девятнадцатом, по дошедшим до Зигмунда Липовецкого слухам, собственноручно расстрелял Леонида Косачевского, дав, правда, ему возможность спеть перед смертью «Интернационал».
Речи Попова носили такой поджигательский характер, что в одном из своих писем Махно вынужден был напомнить ему, а через него и всей своей делегации в Харькове, что излишне увлекаться не следует. «Два слова о нашей тактике, – писал Махно, – будьте во всем энергичны, настойчивы, но в то же время будьте осторожными, чуткими и тонкими политиками».
Но как-никак, а соглашение было подписано и даже выполнялось. Об этом свидетельствовали интенсивная переброска на Южный фронт махновских частей и сам вид Харьковского вокзала, где сразу же бросались в глаза плакаты с анархистскими лозунгами. А фасад раскинувшегося на Привокзальной площади громадного здания Управления южных дорог настолько густо был обклеен прокламациями и плакатами анархистов, что я невольно вспомнил московский Страстной монастырь, который в тысяча девятьсот восемнадцатом был передан федерацией анархистских групп в полное распоряжение пропагандистского отдела. Но если москвичи чаще всего расписывали стены изречениями князя Кропоткина, то харьковские анархисты явно предпочитали более близкого сердцу батьки Михаила Бакунина.
«Они утверждают, что диктатура, конечно их, может создать народную волю, – полемизировал Бакунин с фасада Управления южных дорог, – мы отвечаем: никакая диктатура не может иметь другой цели, кроме увековечения себя, и что она способна породить, воспитать в народе, сносящем ее, только рабство; свобода может быть создана только свободою…»
– Все, что им т-требуется, у Бакунина выискали, – засмеялся Сухов, встречавший меня на вокзале.
– Махновцы малярничали?
– Нет, не махновцы. Из культотдела п-повстанческой армии сюда только Червонный приезжал. За типографским оборудованием Н-набатовцы шкодят. Они от Харьковского Совета еще агиттрамвай требовали. А когда т-трамвай не дали, обиделись. Слухи ходили, будто даже к Махно жалиться ездили. Заступись, дескать, батько, нарушают большевики соглашение. Да только Махно не п-поддержал. Оружие, говорит, – дело, продснабжение – дело, а трамваи и прочее электричество – баловство. О т-трамваях, говорит, ни я, ни Бакунин, ни Кропоткин ничего не г-говорили. А потому для дела мировой анархии т-трамваи вроде бы и ни к чему. Так что отстояли наши харьковские трамваи. Да и здание Управления южных дорог им лишь н-наполовину уступили…
Действительно, повнимательней ознакомившись с фасадом управления, легко было убедиться, что анархистские листовки уравновешиваются большевистскими, в которых доставалось не только «черному барону», но и его «невольным пособникам, которые насаждают бандитизм и дезорганизуют тылы Красной Армии».
Специальный стенд рассказывал о положении в деревне. Незаможние крестьяне Роменского уезда послали на борьбу с Врангелем отряд в 80 человек, снабдив его за счет кулаков всем необходимым. Не отстали от них и незаможние крестьяне Зеньковского уезда, которые, отобрав у кулаков коней, сформировали для отправки на фронт целый кавалерийский эскадрон.
Коллегия Наркомпрода УССР сообщала о премиях, установленных ею для волостей, выполнивших продразверстку. Премии поражали поистине королевской щедростью. На каждую душу трудового крестьянского населения волости выдавались 3 фунта соли, 2 фунта керосина, 2 аршина мануфактуры и 5 фунтов подков и гвоздей.
Рядом с этим стендом – другой, посвященный неделе борьбы с бюрократизмом. Здесь в обращении некоего рабочего корреспондента, выступающего под псевдонимом «Трудовая Мозоль», высказывалась мысль о необходимости немедленно очистить коммунистическую партийную среду от всяких бюрократических пережитков, для чего предлагалось ответственных товарищей, замечаемых в бюрократизме, снимать на время со своих постов и направлять рабочими на фабрики и заводы для перевоспитания в пролетарской среде.
Над стендом – броский плакат: «Долой красное дворянство, да здравствуют настоящие коммунисты!»
Мы подошли к ожидавшей нас пролетке, которая стояла неподалеку от того места на Привокзальной площади, где к годовщине Октябрьской революции должен был быть открыт памятник Ленину.
– В уголовный розыск, Л-леонид Борисович? – спросил Сухов.
– Успеем.
– В бандотдел?
– Тоже успеем.
Павел немного растерялся.
– А куда? – озадаченно спросил он.
– А никуда, – сказал я. – Немного проедемся по городу. Давненько здесь не был. Надо же посмотреть. А пока я буду глазеть по сторонам да дышать харьковским воздухом, вы меня введете в курс последних событий.
Павел кивнул кучеру:
– Давай, Ванько, по Екатеринославской, а там поглядим.
– К бирже чи как?
– Можно и к бирже, а можно и «чи как», – объяснил я.
Кучер, молодой, круглолицый, с пушистыми и мягкими, как тополиный пух, усиками, сдвинул свой щегольской картуз с лаковым козырьком сначала на правое ухо, затем – на левое. Видно, в этих несложных на первый взгляд действиях было нечто магическое, полное скрытого смысла, ибо, как только картуз коснулся левого уха, лицо кучера просветлело, и он щелкнул кнутом. Я понял, что формулировка «чи как» его полностью устраивает.
Лошадь шла размашистой иноходью, посверкивая будто вылитыми из серебра подковами.
Весело шелестели по гладкой мостовой дутики. Ветер играл желтыми и красными листьями.
Воздух пах прелью опадающей листвы, густым травянистым настоем скверов и бульваров, сырой свежестью полосатых кавунов и дразнящей сладостью слегка перезревших дынь. Такой воздух можно было выдавать по карточкам к революционным праздникам, включая его в ударный паек. По осьмушке на душу…
Осень двадцатого года в Москве тоже была теплой. Но все же не такой, не харьковской. Да и относились к ней москвичи иначе – с подозрением и страхом. Она представлялась им чем-то вроде вкрадчивого наводчика с бандитского притона на Хитровке или Сухаревке. И одет чисто, и ласков будто, а показался где – жди беды. Большой беды! Октябрь – осень, а за осенью, известно, – зима: холод, голод, смерть…
Ознакомительная версия.