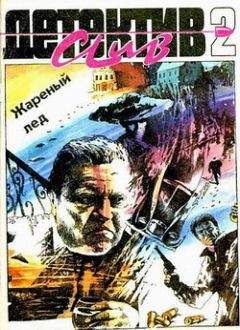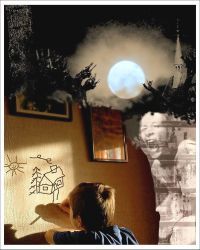Чибисов, имевший на всякие изменения обстоятельств свою точку зрения, прокомментировал новость поутру, едва мы собрались в дежурке:
— А толкуют, что повышения портят натуру. Вот и верь людям, — страсть к зубоскальству была в Кольке неистребимой. — Леонтьич, теперь дядя Саша тебе, глядишь, и стульчик начнет предлагать в своем кабинете?
— Ага, обрадовался, как же. Он предложит… — Вечно Поддатый Винни-Пух не продемонстрировал обычной язвительности по двум причинам: во-первых, он не успевал сразу раскусывать Колькины наколки, во-вторых, грядущая пьянка настроила его примирительно. И все-таки дежурный добавил:
— Предложит. Смотри только, чтобы одно место не разболелось…
Птица скорчил каменную физиономию и с видом первого ученика стал внимать назиданиям разболтавшегося Леонтьича. Тот выудил из житейского багажа явно раздутый пример коварства вождей и начал утомительный пересказ. Едва патриарх смолк, я спросил, ни к кому персонально не адресуясь:
— Нет, не понимаю. Какого хрена дядя Саша расщедрился? Ну не понимаю…
Тут нас всех турнул из помещения помощник дежурного, мол, не даем работать. Гурьбой мы двинулись в «греческий» зал, где из произведений искусств был лишь бюст Ильича, оставшийся от ленинской комнаты, как и доска с надписью «политбюро», но с отодранными фотографиями. Я почему-то вспомнил, как Ганин во время забавного политического путча менял в помещении портреты. Ориентировался на слухи…
— Говорю вам, молодежь, — и тут гнул свое Леонтьич, — угостит он и будет подслушивать, кто что по пьянке скажет.
Такой далекий от наших проблем, криминалист Вадим Околович листал справочник. Полузакрытый фанерной трибункой, он, казалось, пребывает в обычном трансе. Вдруг Вадик громко захлопнул книгу и с легким заиканием произнес:
— Думаю, опасаться подвоха не стоит. Просто АлекСандр Васильевич внимательно читает руководящие документы…
По- моему, от звука этого весьма и весьма тихого голоса вздрогнула вся компания. Точно сам Ганин застиг нас за предательскими разговорчиками. Околович слыл безвредной личностью. Единственно, чем он прославился, так это борьбой за свои шикарные смоляные усы. Наш руководитель испробовал все приемы воздействия, чтобы усач выглядел, как «все нормальные офицеры», но даром старался. Вадим осаживал его с безупречным тактом — сказывалось городское воспитание.
Итак, мы вздрогнули, лишь непотопляемый Чибисов, не растерявшись, крикнул:
— Ну и чего дальше?.
Криминалист, пожав плечами, бесстрастно закончил свою мысль:
— Последние разработки в области психологии указывают на необходимость быть на короткой ноге с подчиненными. Формируется тип демократического лидера, способного сделать гораздо больше, чем въедливый сухарь.
Мы доброжелательно смотрели на вечного молчуна. Еще никто не заставал Ганина за чтением литературы, тем более, прикладной. Чувствовалось, что Околовичу не по себе от такого внимания. Возможно, он уже жалел, что раскрыл рот. Зато отделение думало совсем иначе. Особенно сильное впечатление едкая реплика произвела на меня. Вадим, эта темная лошадка, давно занимал мое воображение. Говорят, птицу видно по полету. Вот и замкнутость Околовича выглядела аристократически. Она никого не обижала. Если в «конторе» что-то затевается, то участие криминалиста в этой выдумке — гарантия ее чистоплотности. А мне не нужно было никаких гарантий, я знал его лучше других…
Ганинское застолье получилось таким, каким оно и должно было получиться. С вытянутыми лицами мы распили шампанское из расчета — одна бутылка на десять человек — и по стакану жиденького чая. Потом начальник любезно произнес:
— Наши представители могут быть свободны.
Нас выставили за дверь, а руководство и любезный гость из района Витюля Шилков остались трескать икру с водкой. Каждому свое. Вновь Вечно Поддатый Винни-Пух сел в лужу с прогнозом. От огорчения он отправился в вытрезвитель ублажать разбуженного зверя. Чибис увязался с ним. И так вышло в очередной раз, что домой я отправился в компании Вадика Околовича. Мы беседовали. Впрочем, болтал я, а Вадим слушал. Вот кто умел слушать. С ним хотелось говорить безостановочно. Незаметно речь зашла о моей работе, доле участкового.
«Сергей, прости меня, Сережа», «Сережа, мне кажется», — так деликатно останавливал порой мой фонтан Околович. Я очень люблю, когда меня так называют. Ни Сережка, ни Серый, ни Сергуха. Обмен мнениями касался разочарований участкового Архангельского. Ошибки собственные, а порой и просто бессилие посеяли в моей душе смятение. Страшно становилось не только за персональный участок. Милицию били-топили кому ни лень, ее подрывали изнутри. И не видно этому гадству конца-края. В отделении частенько разглагольствовали на эту тему, но будто по обязанности. Тут же, подле Околовича, я вдруг почувствовал чуть ли не вдохновение.
— Хреново, — вещал я, — почему кругом столько негодяев? В политике, экономике, частной жизни. Где, черт побери, хорошие люди, о которых так много твердят в школе и книжках для детей?
— По роду своей деятельности ты чаще сталкиваешься с отбросами общества. Называется — профессиональная деформация… — начал Вадик.
— И поэтому все вижу в мрачном свете? — не терпелось «включиться» мне. — Ладно, оставим преступников. А как тебе коллега Ганин?
— Он опытный специалист.
— А человек?
— В системе нужны разные рычаги.
— Ганин — хороший человек?
— Плохой.
— Чего же он сидит в таком кресле?
— Думаю, Сережа, это чей-то недосмотр. Рано или поздно оплошности исправляются.
— Ну да, когда ГАВ генералом станет и счастливо уйдет на пенсию. Звания досрочно получает. Ты вот шибко принципиальный и все-таки подчиняешься этакому дерьму… — неожиданно для самого себя задрался я.
Вадик резко остановился. Обезоруживающе улыбнулся. Лукаво подмигнул:
— Сережа, знаешь, в чем главный недостаток нашего начальника?
— Ну, барин он…
— Точнее, доверенное ему хозяйство Александр Васильевич принимает за личное. У меня другой взгляд на вещи. Я служу не ему, а делу. Ясно?
— Ясно, — меланхолично отреагировал я, — другой бы сказал: «Фигу в кармане держит».
— На жизнь надо смотреть философски, — совсем не обиделся Околович.
— Даты, Вадим, прямо-таки неприступная крепость. Неужели не тянет поскандалить, с завязанными глазами вы тянуть жребий? Доказать всем этим ганиным, что есть на свете вещи поважнее карьеры. Ну ее к чертям, такую жизнь, где правят нарукавники и канцелярские душонки!
Сам не знаю, чего я пристал к Околовичу. Ему бы не составило труда высмеять меня, он же выбрал другое.
— Видишь ли, Сережа, — после некоторого раздумья промолвил мой спутник, — я часто размышляю над тем, что достойнее: скромно, но честно пройденный путь или вспышка, взрыв страстей, поступок — и до сих пор не на хожу категоричного ответа. Вроде бы первое мне ближе, однако иногда…
В тот момент на Околовича любопытно было посмотреть: его тонкое лицо ожило, осветилось (да простятся мне красивые слова), будто ночное озеро в грозу. И я сказал ему, не разжимая губ: «Здравствуй, брат!» В тот момент все говорило за то, что передо мной — окончательно и бесповоротно обретенный друг.
Ночью мне не спалось. Когда такое случается, я, уткнувшись в подушку, думаю о футболе или вспоминаю девчонок своей юности. Футбольная тема — это несколько стоп-кадров о моих голах, подаренных самой судьбой. Однажды почти от центра я забил штуку с окаянной левой ноги. Мяч, подобно ракете, метр за метром набирал скорость и, наконец, со звоном врезался в перекладину. Вратарь, отчаянно пытавшийся достать его, взлетев в воздух, получил удар рикошетом в спину, и мы повели 1:0.
Человек из нашей команды, с которым мы за десять лет объездили стадионов больше, чем у меня пальцев на руках и ногах, как-то растерянно пробормотал, поздравляя:
— Н-да… черт-те что… И как это ты так, а? Чудно.
Он был потрясен. Конечно, не ударом. Нет. Он был изумлен тем, что на его глазах произошло вроде бы невозможное. Мой партнер столько времени волей-неволей следил за мной, моя игра лежала перед ним открытой книгой. И вдруг — чудо.
В раздевалке я клялся всеми святыми, что отлично просчитал ситуацию, но это была неправда. Просто меня точно кто-то толкнул в бок, мол, рискни. Ну, хрен с ним, подумал, рискну. И влепил. Потом сто раз пробовал повторить удар, но тщетно. Может быть, и в самом деле, чудо?
Мне не спалось. Заставить себя «прокручивать» спортивные картинки никак не удавалось. В голову лезли мысли о Таньке. Когда же мы с ней встретились? Время, уступи, верни к чистым ключам отрочества.
Наш старый дом, наполненный невесть откуда берущимися шорохами, вздохами. Маленькая комната, теплая келья. За окном под порывами ветра беснуется одинокая береза. Тихие вечера наедине с книгой. Струится матовый свет. На залитом чернилами столе — школьная тетрадка, вся испещренная стихами. Предчувствие. Чего? Чего жаждут и что никогда не сбывается? Свежего морского ветра? Звездочек на офицерских погонах? Влюбенных девчоночьих глаз? Прочей романтической белиберды? Не знаю. Но дай Бог еще хоть раз пережить это — и мгновенно вспомню.