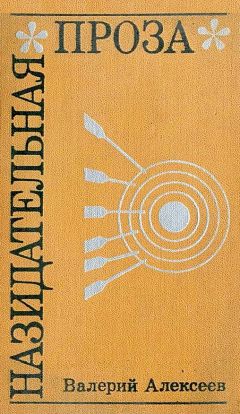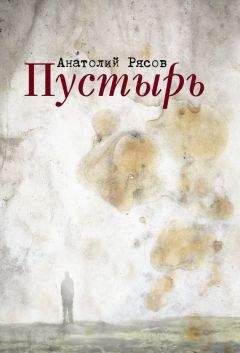Итак, я вышел из института с твердым решением никогда туда больше не возвращаться. Однако, пройдя полквартала, я понемногу стал успокаиваться. В конце концов, ничего кардинального еще не произошло, и уволить меня еще не уволили, и вялое выражение Конрада Дмитриевича «закрываем тему» можно было толковать двояко: с одной стороны — как решимость, ставшую фактором текущего момента, с другой стороны — как действие, еще не предпринятое. В свете этой неопределенности мое поведение стало казаться мне нелепым и нерасчетливым.
Шаги мои замедлились, и вывески на солнечной стороне улицы стали казаться мне привлекательными. Особенно одна задержала на себе мое внимание. «Кафе-мороженое» — было написано широкими буквами над витриной, украшенной пластмассовыми медведями и пингвинами. Где-то что-то связалось в моей голове, и требование Конрада Дмитриевича «Остыньте!» вступило в тайный сговор с этими подтаявшими буквами и с белесым, как бы заиндевевшим стеклом. Я наискось перебежал улицу и вошел в прохладный вестибюль.
Кафе пустовало. Швейцар, лениво вышивавший на пяльцах, покосился на мой плащ, который я перекинул через барьер, и взглядом подтолкнул меня к внутренней двери. Сконфузившись, я прошмыгнул в зал и сел за крайний, возле выхода, столик. Официантка, равнодушно на меня взглянув, продолжала беседовать с буфетчицей, и я получил полную возможность наслаждаться полумраком, прохладой и бездеятельностью сколько вздумается.
4
И в это время в кафе вошел Фарафонов. Сказать, что он сразу бросился мне в глаза, было бы преувеличением. Одет Фарафонов был неказисто, даже подчеркнуто неказисто: в наши дни мало кто разгуливает по центру города в распахнутом ватнике и в кирзовых сапогах. На голове Фарафонова красовалась грязно-голубая кепка, а небритость щек заметна была не только в профиль, но и сзади из-за ушей. Развалистой матросской походкой Фарафонов прошел в середину зала и уселся лицом ко мне, за стол. Тут только в полной мере я смог оценить всю необычность его костюма: под трепаной стеганкой Фарафонов носил светло-серый, тончайшей шерсти пуловер, из-под которого, в свою очередь, виднелся расстегнутый ворот ярко-белой и, несомненно, чистой сорочки. О пуловере я сужу уверенно: точь-в-точь такой же имелся и у безнадеги Бичуева, он привез его из Италии, заплатив за него, дай бог памяти, что-то около трехсот тысяч лир. Лицо у Фарафонова было хмурое и в то же время спокойное: такие лица бывают у людей, которые живут сложно, но, как говорится, со вкусом.
До сих пор я именовал его Фарафоновым, но это вовсе не означает, что фамилия Фарафонов была мне известна с самого начала. До определенного момента я называл про себя Фарафонова «посетителем номер два» или «рецидивистом», поскольку ничего более точного мне на ум не пришло: круглая голова Фарафонова была острижена наголо, и большие толстые уши выдавали характер тяжелый и злопамятный.
5
В отличие от меня Фарафонов не был расположен долго ждать. Снявши мятую кепку, он смахнул ею пыль со стола, а смахнувши, ударил по столу с такой силой, что официантка вздрогнула и, поправив на груди лямки фартучка, цыплячьей походкой направилась к нам.
Я пришел первый, но Фарафонов сидел ближе, и, естественно, первый шквал раздраженной любезности обрушился на него. Фарафонов не дрогнул. Он внимательно выслушал официантку, а потом исподлобья на нее взглянул. Мне показалось, что официантка его узнала. Во всяком случае, она побледнела, растерянно отступила на шаг и сделала какое-то неуклюжее подобие книксена. А Фарафонов, подняв руку и шевеля в воздухе пальцами, невозмутимо принялся объяснять ей, какой формы и каких размеров мороженого он ожидает. Официантка слушала его с изумлением. Я-то знал определенно, что ничего, кроме пары-тройки промороженных шариков, в этом кафе не добиться, и потому внимательно наблюдал за действиями Фарафонова. Судя по движениям его растопыренных пальцев, он желал чего-то кружевного, волнистого и пышного, сам при том не представляя в точности, как оно будет выглядеть. Однако официантка выслушала его до конца и, черкнув что-то в своем блокнотике, подошла ко мне.
— То же самое, — сказал я твердо, — что и этому гражданину.
На своих правах я любил настаивать, хотя и не всегда в этом преуспевал.
Официантка взглянула мне в глаза с беспокойством, но мой хладнокровный взгляд отчего-то ее насмешил.
— Еще чего! — проговорила она с недоброй ухмылкой. — Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
— Вот как? — сказал я, холодно подняв одну бровь, что, как правило, мне удавалось. — Ну-ка позовите заведующего.
— Ладно, ладно, — брезгливо ответила официантка. — Заведующего ему подавай. Что положено, то и будет положено.
И с высокомерным видом удалилась. Подойдя к буфетчице, она перегнулась через прилавок и о чем-то горячо ей зашептала, поминутно озираясь на Фарафонова, между тем как сам Фарафонов, видимо, считал свой указ утвержденным и, достав из кармана ватника мятую газету, рассеянно ее просматривал.
6
Есть люди, уверенные в себе от природы. Их не волнует вопрос, красиво ли они сидят и насколько убедительно выглядят. И если им захочется, к примеру, высморкаться, они сделают это без промедления, проникновенно глядя вам в глаза. Фарафонов был из таких. Одной рукой он держал газету, другою деловито ощупывал свое ухо и время от времени взглядывал на меня с остреньким, но бессмысленным любопытством — в общем, вел себя так, как ведут себя гориллы в зоопарке: уж они-то совершенно убеждены, что делают все как надо.
Через десять минут официантка появилась из-за перегородки, неся в руках две вазочки: хрустальную, как я сразу понял, для Фарафонова и алюминиевую — для меня. В хрустальной все кипело взбитыми сливками, искрилось разноцветными консервированными фруктами и являло собой то ли вид на Стамбул перед закатом, то ли заснеженный Луна-парк. В моей же катались, постукивая, три леденистых шарика размером с грецкий орех.
Я с детства не люблю взбитых сливок, но наглая несправедливость мне тоже с детства претит. Поэтому, когда официантка, поджав губы, поставила передо мной алюминиевую вазочку, я возмутился.
— Да что ж это такое, в конце концов! — вскричал я. — Заведующего, пожалуйста, и немедля!
— Ну, я заведующая, — глядя в сторону пустыми, как свистульки, глазами, сказала официантка. — В чем дело, гражданин?
— Отчего же вы ему поставили одно, а мне другое? — спросил я плачущим голосом.
Официантка нехотя повернула голову и некоторое время тупо наблюдала, как Фарафонов с жадностью рушит мороженое ложечкой и ест его, ест. Потом она пожала плечами и, ни слова не сказав в ответ, отошла.
7
Тут Фарафонов поднял голову, посмотрел в мою сторону, усмехнулся перепачканными губами и даже, как мне показалось, подмигнул. «Вот так-то, брат! — прочел я в его маленьких глазах. — Это надо уметь!» И нервы мои не выдержали.
— Ненавижу самоуверенных типов, — пробормотал я вполголоса и, схватив свою сиротскую вазочку, двинулся к Фарафонову с туманным намерением сказать ему что-нибудь подобающее, а если получится, то и побить. — Послушайте, приятель! — сказал я Фарафонову на подходе. — Не кажется ли вам, что со мной поступили несправедливо? Я допускаю, что вы зять буфетчицы или замаскированный ревизор, но даже в этом случае вы должны согласиться, что налицо грубое нарушение общепринятых норм…
Увы, мой развязный тон не произвел на Фарафонова ни малейшего впечатления. Кивком указав мне на свободный стул, Фарафонов продолжал увлеченно хлюпать своим мороженым, и я, потоптавшись от неловкости с полминуты, вынужден был присесть к его столу. Фарафонов кушал, низко наклонившись над вазочкой, и я во всех подробностях успел рассмотреть его большую стриженую голову, поверхность которой заметно шевелилась от движения второстепенных мышц. Похоже было, что вызвать его на ссору мне не удастся, поэтому, помолчав, я сделал уже более осторожный заход.
— Возможно, вы просто миллионный посетитель, — сказал я, пригнувшись к столу и пытаясь заглянуть в лицо Фарафонова.
Фарафонов хмыкнул с пренебрежением. Тут сочная капля сливок упала ему прямо на пуловер, и, положив ложечку на стол, Фарафонов принялся озабоченно растирать эту каплю двумя корявыми пальцами. При этом голова его была склонена к плечу, а нижняя губа оттопырилась. Я проклинал себя за то, что подошел к этому типу и заговорил первый, но как выпутаться из ситуации — мне в голову не приходило.
Покончив с каплей, Фарафонов пристально (и очень понимающе) посмотрел на меня и глуховатым голосом сказал:
— А вы мне нравитесь. По-моему, я в вас не ошибся.
— Простите? — пролепетал я, растерявшись. От этих слов повеяло безуминкой, и я, признаться, даже струхнул.