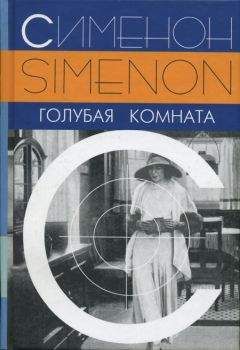Когда он входил в кабинет, с него снимали наручники, охранники выходили по знаку следователя, и Дьем, извиняясь за опоздание: «Простите меня задержали», — протягивал ему свой серебряный портсигар. Это уже стало традицией, машинальным жестом.
Все вокруг было обветшавшим, сомнительной чистоты, как бывает на вокзалах или в административных зданиях, — стены, выкрашенные в грязно-зеленый цвет, камин из черного мрамора, над которым висели черные же часы, которые уже многие годы показывали без пяти двенадцать.
Часто следователь сразу говорил:
— Думаю, вы сегодня мне больше не понадобитесь, господин Тринке.
Секретарь с черными усами уходил, забрав свою работу, — Бог весть, где он будет ее делать, — значит, сегодня о фактах речь не пойдет.
— Я думаю, вы поняли, почему я задаю вам вопросы, которые, казалось бы, не имеют отношения к делу. Я хочу докопаться до самой сути, составить ваше личное досье.
Слышался обычный шум города. На другой стороне улицы через распахнутые окна можно было увидеть людей, которые занимались своими повседневными делами. Следователь не мешал Тони вставать, когда тому хотелось немного размяться, расхаживать по кабинету или просто смотреть на улицу.
— Мне бы хотелось, например, узнать распорядок вашего дня.
— Знаете, он меняется в зависимости от времени года и дня недели, особенно от рыночных и ярмарочных дней.
Тони вдруг понял, что он говорит в настоящем времени и, улыбнувшись, поправился:
— Вернее сказать, менялся. Я обслуживал ярмарки в радиусе тридцати километров, в Вирье, Амбассе, Широне. Хотите, чтобы я назвал все?
— Нет, это лишнее.
— В такие дни я выезжал рано утром, иногда в пять.
— Жена вставала, чтобы приготовить вам завтрак?
— Да, она сама так хотела. В другие дни у меня были встречи на фермах, я демонстрировал или ремонтировал машины. Наконец, я принимал фермеров у себя в ангаре.
— Давайте возьмем средний день.
— Жизель вставала первая в шесть часов.
Она тихонечко выскальзывала из кровати, выходила, быстро натягивая свой розовый халатик, и чуть позже он слышал, как она разжигала огонь в плите, как раз под их комнатой. Потом она выходила во двор засыпать зерна курам и накормить кроликов.
Около половины седьмого он спускался вниз, не умываясь, едва коснувшись расческой своих жестких волос. Стол в кухне был без скатерти, с пластиковой столешницей. Они завтракали сидя друг против друга, Мариан еще спала — ей разрешалось спать, сколько захочет.
— Конечно, когда она пошла в школу, приходилось будить ее в семь часов.
— Ее провожали?
— Только первые два-три дня.
— Вы?
— Нет, жена, заодно она делала и покупки. Обычно она шла в деревню около девяти, заходила в мясную лавку, колбасную, бакалейную…
— В бакалею Депьера?
— В Сен-Жюстене практически нет другой.
Каждый день по утрам под низкими сводами магазина собиралось с полдюжины женщин, которые болтали, ожидая своей очереди. Однажды, неизвестно почему, ему пришло на ум сравнить лавку с ризницей.
— Ваша жена никогда не просила вас сделать покупки?
— Только когда я ездил в Триан или другой город, купить что-нибудь, чего не было в деревне.
Он догадывался, что эти вопросы были не так безобидны, как казалось на первый взгляд, но все равно отвечал откровенно, стараясь быть точным.
— Вы не заходили к Депьерам?
— Возможно, раз в два месяца. В дни генеральной уборки, например, или если жена болела.
— По каким дням бывала генеральная уборка?
— По субботам.
Почти как у всех. По понедельникам был день большой стирки, во вторник или в среду, по мере того, как белье сохло, в зависимости от погоды, — гладили. Так было в большинстве семей, и по утрам в определенные дни во всех дворах полоскалось на ветру развешанное белье.
— Когда вы получали почту?
— Нам не приносили ее домой. Поезд проходит через Сен-Жюстен в 8:07 утра, и мешки с корреспонденцией относят прямо на почту. Мы живем на краю деревни, поэтому почтальон добирается до нас только к полудню. Я предпочитал сам ходить на почту и забирать корреспонденцию, иногда мне приходилось даже ждать, пока ее разберут. В других случаях мне просто оставляли мои письма.
— Мы еще вернемся к этому вопросу. Вы ходили туда пешком?
— В основном — да. Я брал машину, только если у меня были дела за пределами деревни.
— Раз в два-три дня?
— Скорее раз в два дня, только зимой у меня было меньше поездок.
Надо было бы объяснить все тонкости его ремесла, которое зависело от смены сезонов и сельхозработ. Например, когда они вернулись из Сабль-Долонь, в разгаре был сезон ярмарок. Потом наступило время сбора винограда, затем осенняя страда, так что ему и вздохнуть было некогда.
В первый четверг он не поехал по Новой улице — не хотел смотреть, повесила Андре полотенце на окно или нет. Он уже говорил об этом Дьему, но тот настаивал:
— Вы решили больше с ней не встречаться?
— Я сказал, что это было твердое решение.
— Может быть, она подавала весточку другим способом?
На этот раз он совершил ошибку — и понял это, как только открыл рот. Но было поздно. Слова уже слетели с его губ:
— Я не получал от нее вестей.
Он солгал не из-за себя. И не потому, что он хранил верность Андре или из рыцарских побуждений.
Тони вспомнил, что в день этого допроса шел дождь, и месье Тринке, секретарь, сидел на своем месте у стола.
— Вы вернулись с Песков с женой и дочерью семнадцатого августа. Вопреки вашим привычкам, в четверг вы не поехали в Триан. Боялись встретить Андре Депьер?
— Может быть, но я бы не стал употреблять это слово.
— Ладно. На следующий четверг у вас была намечена встреча с неким Фелисьеном Урло, секретарем сельхозкооператива. Вы встретились у вашего брата, пообедали со своим клиентом и вернулись в Сен-Жюстен, минуя рыночную площадь. По-прежнему чтобы не столкнуться со своей любовницей?
Он бы не смог ответить на этот вопрос, он и в самом деле не знал. Он прожил эти недели как в пустоте, не задавая себе никаких вопросов и не принимая никакого решения.
Одно он знал наверняка — он отдалился от Андре. И еще — он больше времени проводил дома, словно нуждался в общении с близкими.
— Четвертого сентября…
Пока следователь говорил, Тони пытался припомнить, что могла означать эта дата.
— Четвертого сентября вы получили первое письмо.
Он покраснел:
— Я не знаю, о каком письме вы говорите.
— Ваше имя и адрес были написаны на конверте печатными буквами. На марке стоял штемпель Триана.
— Не помню.
Он продолжал лгать, решив, что отступать уже поздно.
— Начальник почты господин Бувье еще отпустил замечание по поводу этого письма.
Дьем вынул из папки листок бумаги и стал читать:
— «Я сказал ему: “Похоже на анонимку, Тони. Обычно их пишут таким почерком”». Вы по-прежнему ничего не вспомнили?
Он покачал головой. Ему было стыдно лгать, да и лгал он плохо, краснея, уставившись в одну точку, чтобы в его глазах не прочли смущение.
Письмо без подписи все же было не совсем анонимным. Коротенькая записка, тоже написанная печатными буквами, гласила: «Все в порядке. Не волнуйся».
— Видите ли, месье Фальконе, я уверен, что особа, которая вам писала и отправила письмо из Триана, изменила свой почерк не потому, что вы могли его узнать, а потому, что его мог узнать почтальон. Следовательно, это был кто-нибудь из Сен-Жюстена, чей почерк мог знать господин Бувье. На следующей неделе на ваше имя пришел еще один точно такой же конверт. «Слушай-ка, — сказал вам, шутя, почтальон, — я, видно, ошибся. Тут пахнет любовными делами». Текст был не длиннее предыдущего:
«Я все помню. Люблю тебя».
Эти письма произвели на него такое впечатление, что он стал делать крюк, когда ездил на вокзал, где иногда получал с курьерским запчасти — лишь бы не проезжать по Новой улице.
В таком подавленном состоянии духа он провел много недель, разъезжая по рынкам и фермам или работая у себя в ангаре.
Теперь он чаще пересекал лужайку, которая отделяла ангар от дома, чтобы увидеть Жизель, которая то чистила овощи, то терла кафель на кухне, то занималась уборкой наверху. Пока Мариан была в школе, дом словно пустел. В четыре часа она приходила, и ему очень хотелось пойти посмотреть на них обеих, как они сидят на кухне напротив друг друга и лакомятся каждая из своей баночки.
Об этом тоже не раз будут говорить потом. Мариан любила только клубничное варенье, а у ее матери была от него крапивница, поэтому она предпочитала сливовый компот.
В начале их совместной жизни вкусы Жизель его забавляли, и он часто поддразнивал ее.
Многим она казалась эфирным созданием из-за своих светлых волос и бледного худенького лица.