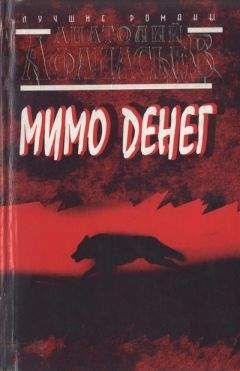Медсестра покраснела.
— Ах, Федор Николаевич, интеллигентный человек, а так грубо шутите… Разве можно?..
Сабуров увел разгулявшегося пациента в кабинет, усадил в кресло под лампой.
— Что ж, господин Баклажан, судя по вашему настрою, дела пошли на поправку?
— И не говори, Савелич. — Баклажан прикурил, затянулся, смачно отхаркнул в медную плевательницу. — Ты просто чудодей, верный про тебя слух идет… Третий день ни одного лишая. Сплю как сурок. Спасибо, браток. Не зря небо коптишь… А вот с манией похужее. Вчера опять обознался.
— Расскажите подробнее. — Сабуров, нацепив очки, изобразил повышенный интерес, хотя на самом деле не испытывал ничего, кроме скуки. С медицинской точки зрения — рутинный случай. Стойкое перенапряжение мозжечка, подвижные, плавающие рефлексы…
Федор Баклажан (доктор так и не понял, кличка это или настоящая фамилия) был в принципе не таким примитивным существом, каким представлялся. Начать с того, что он действительно был натуральным вором в законе, авторитетом старой закваски, а таких в россиянском бизнесе почти не осталось. Их давно вытеснили беспредельщики, которые не признавали никаких законов, в том числе и воровских. Белые воротнички пришли на смену уголовным харям, далеко превзойдя «стариков» в жестокости и цинизме. Какой-нибудь образованный, говорящий на двух-трех языках сподвижник рыжего Толяна в любой комбинации давал фору солидному, покрытому тюремной пылью «папане». Во второй половине девяностых годов, будто по команде, старую уголовную гвардию попросту выкосили из бизнеса, как сорную траву. Лишь некоторые уцелели и даже укрепились, Баклажан был один из них. Генеральная разборка застала его в Сибири, он активно участвовал в страшной алюминиевой войне и выскользнул, как уторь, прихватив с собой приличный капитал. Осел в Москве и здесь широко развернулся, войдя в смычку, как Сабуров выяснил под гипнозом, с вьетнамскими товарищами и наркобаронами с Ближнего Востока. Основал фирму-прикрытие, дерзко назвав ее русским именем «Иван Поддубный», с филиалами в Петербурге и Перми, короче, выбился в предпринимательскую элиту, ради которой, как известно, и затевался беспощадный передел собственности, остроумно названный «реформой». За успех пришлось заплатить дорогую цену: необратимый функциональный сдвиг, озверение, полная атрофия гуманитарных ориентиров. Имея дело с подобными существами, Сабуров удивлялся лишь одному: каким образом они сохранили первоначальный человеческий облик — ни клыков, ни рогов, ни вторичного оволосения? Вероятно, думал он, это все придет на следующем этапе перерождения…
— Можно и подробнее. — Баклажан отхаркнул желтоватый комок, на сей раз не попав в плевательницу. — Вчера на Пятницкой, в шопе. Зашел пивка взять пару банок. Ну вообще чего-нибудь приглядеть на вечер. К кобылке одной собирался нагрянуть. Все чин чином. Сперва Васька Джин, телохранитель мой, сходил, проверил. Какого-то фраера выкинул оттуда. Чисто. Я зашел, в натуре никого, только продавщица за прилавком лыбится. Я не придал значения, взял упаковку баварского, водяры, нарезки всякой накидал в корзину, подхожу к этой девке за кассой. И тут, веришь ли, накатило. У ней там стол с ящичками, с монетами, чем-то щелкнула, когда отпирала, а у меня в глазах — ствол. То есть, помнилось, будто она из ящичка ствол вынает. Парабеллум. Вот так ясно увидел, как тебя сейчас. Ну и врезал ей от души по кумполу. Голой рукой, доктор! Так она, дурища, башкой об стену хрястнулась и в отключку ушла. Меня Джин подхватил, еле оторвались. Может, до смерти зашиб деваху, взял грех на душу. Но суть не в этом. Мираж! Напоследок в ящичек заглянул, поворошил бабки — никакого ствола. Но ведь видел пушку. Своими глазами. Трезвый был. Что делать, Савелич? Лечи, иначе каюк.
— Это единственный случай за неделю?
— Если бы! На другой день, как у тебя был, проводил совещание в конторе. За столом все свои пацаны, проверенные, человек шесть. Вопрос важный: стрелку забили с козлами из Мытищ. Приспичило им порожняк погонять. Значит, сидим, спокойно веду инструктаж, и вдруг, ни с того ни с сего, чую — дымком потянуло и туман, как на зорьке над рекой. И пацанов никого не узнаю, рожи красные, распаренные, между собой шушукаются и в меня пальцами тычут. А двое — нырк под стол. Ну, чую, дело худо, выхватил автомат, он у меня всегда в столе на всякий пожарный, да и пустил Снегурочку поверх голов. И тут же, веришь ли, прозрел. Никакого тумана, пацаны как пацаны, только на пол от страха посыпались. Жалобно так верещат: за что, дескать, хозяин? И смех и грех. Хорошо, верхом повел, уберег детушек Господь, покосил бы всех на хрен. Мираж, ничего не поделаешь. Нет, верно Стас Говорухин сказал: так жить нельзя.
— Не бережете себя, Федор Николаевич. Вам бы отдохнуть надо, нервы привести в порядок.
— Но я не чокнутый, нет?
— Какой же вы чокнутый? Переутомились малость, это бывает. Большие деньги даром не даются.
— Святые слова, Савелич. Вертишься как белка в колесе. Везде ведь сам поспей. Иначе кинут за милую душу. Совести у людей совсем нет… Так вылечишь или нет?
— Конечно, вылечу. Аванс взял, куда денусь.
С трудом усыпил громилу и, пока тот спал, привычно погоревал над своей судьбой. Годы никого не щадят, с каждым днем все тяжелее давались сеансы. Пациенты отсасывали энергию, как печная труба угольный жар. Скоро придется оставить практику, и что тогда? Пустая, бессмысленная старость, хотя и обеспеченная материально. Молодость профукал, детишками не обзавелся, да и женка, любимая Манечка, слишком рано покинула. Винить некого, сам себе построил нелепую жизнь. Все гонялся за журавлем в небе, а под конец синицы в руках не осталось.
После целебного сна Баклажан выглядел молодцом. Порозовел, складки на лбу разгладились, из желтых глаз ушел бешеный блеск. Искренне поблагодарил:
— Спасибо, Савелич, хороший ты человек. Каждый раз обновленный от тебя ухожу. Будто рулон колбасы сожрал.
— Полагаю, еще два-три сеанса — и мы вашу манию одолеем.
— Уж постарайся, любезный…
На посошок Татьяна Павловна поднесла бандиту все ту же чарку анисовой с лимонной долькой. Баклажан важно ее просмаковал.
— Слышь, Танюха, доктор у тебя великий знахарь. Ему-то, надо думать, не отказываешь?
— Ой, Федор Николаевич, все вы про одно и то же.
— Разве я не мужик? Ладно, после обсудим, когда вылечусь. В благоприятной обстановке. Пока никому не давай, кроме Савелича. Ему можно, поняла?
— Поняла, Федор Николаевич.
Вторым клиентом, прибывшим следом за Баклажаном, был знаменитый адвокат из нефтяного концерна «Плюмбум-С», Гарий Рахимович Худяков. У него беда была, пожалуй, похлеще и почуднее, чем у Баклажана. Вроде обыкновенный энурез, но с какими-то злокачественными проявлениями. Ночами он спал спокойно, прихватывало чаще всего либо на выступлениях в суде (и чем ответственнее дело, тем злее приступ), либо, стыдно сказать, в процессе интимных утех. Началось с год назад после обыкновенной недолеченной простуды, и адвокат, в отличие от квасного патриота Баклажана, сразу уехал лечиться в Европу. Побывал в лучших клиниках Германии, Англии, Швейцарии, но с нулевым результатом. Правда, в Швейцарии его прооперировали по поводу застарелого мениска, и теперь адвокат сильно прихрамывал на правую ногу. К Сабурову его направил Микки Маус, и при первом же визите доктор почувствовал сильнейшую аллергическую реакцию. Гарий Рахимович был красивым, высоким мужчиной лет шестидесяти, с пышной белой шевелюрой, с толстыми негроидными губами, с гладкой, как у младенца, кожей без единой морщинки. Вероятно, дамы полусвета и экзальтированные девочки из киношной богемы сходили по нему с ума. Слава, аристократическая внешность, полные карманы зеленки — что еще надо, чтобы быть любимым?.. В разговоре Гарий Рахимович изящно грассировал, и в уголках жирного рта при этом перекатывались две белые слюнки. Сабуров с трудом справлялся с тошнотой. Как почти у всех представителей творческой элиты, обслуживающей новую буржуазию, наполненные сыростью глаза Гария Рахимовича излучали сокрушительную интеллектуальную продажность. Держался он заносчиво, покровительственно, каждым жестом, иронической улыбкой подчеркивая, как ему тяжко, скучно с маленькими, неразумными двуногими букашками. К Сабурову он относился почти как к равному и без ложного стыда посвящал его в самые интимные подробности своей жизни. Причем все свои физиологические откровения начинал или заканчивал (без всякой связи) упоминанием о том, что прадед его по материнской линии был татарским ханом, ведущим родословную от Кучума, а по батюшке он — столбовой дворянин, что, разумеется, было чистым враньем, но тут Гарий Рахимович ничем не отличался от прихлебателей-интеллигентов, прорвавшихся к сытному корыту, которые вдруг в одночасье все оказались баронами, графами, князьями, и непременно с примесью царской крови. Как заметил поэт по другому поводу, это было бы смешно, когда бы не было так грустно.