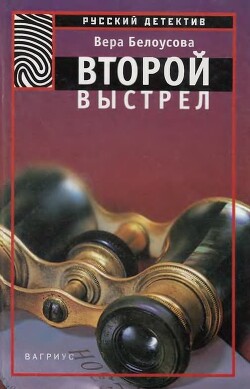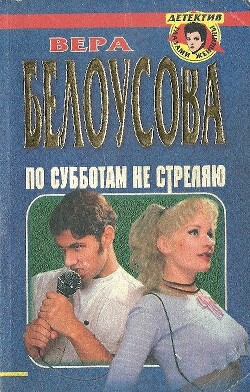второй том тоже есть. Откуда она у тебя?
— Только что получил по почте, — мрачно сказал отец. — Значит, ты ее не оставляла…
— Да нет же! — мать пожала плечами. — Я не понимаю, чего ты волнуешься. Наверно, какая-нибудь ошибка…
— Здесь напечатан наш адрес, черным по белому, — пробормотал отец. Он как-то скис, сник, словно проколотый воздушный шарик, вся ярость куда-то улетучилась. Теперь он выглядел скорее растерянным, я бы даже сказал — испуганным, если бы не боялся, что это аберрация памяти.
— А что это за том? — спросил я, сам не зная, зачем — наверное, чтобы разрядить обстановку.
— Могу сходить посмотреть, — предложил Саша. — Где у вас Гете?
— Не надо ничего смотреть! — рявкнул отец, вновь приходя в раздражение. — Я и так знаю. Это — «Фауст».
— Можно и выкупить! — легкомысленно заявила мать. — Вдруг тот когда-нибудь потеряется…
— Кто из вас ее оставил, скажите честно! — отец обвел нас всех совершенно сумасшедшим взглядом.
— И не думал! — твердо заявил я.
— Первый раз ее вижу, — буркнул Саша.
— Я не оставлял, — жалобно проговорил Петька.
Мать покачала головой и произнесла фразу, показавшуюся мне довольно странной:
— Знаешь что, Володя, — сказала она, обращаясь к отцу, — в конце концов, если ты так боишься, то лучше не ходи.
Отец, ни слова не говоря, выскочил из комнаты, страшно хлопнув при этом дверью.
— Чего это он? — испуганно спросил Петька.
Мать молча о чем-то размышляла.
— Куда ты посоветовала ему не ходить и чего он боится? — спросил я.
— Не ходить — в театр, на «Фауста», сегодня вечером.
— А чего он боится? — повторил я.
— Он боится… туда идти.
— Почему?!
— Откуда я знаю! — мать беспечно махнула рукой. — Просто вижу, что он пятые сутки не в себе и лезет на стенку при слове «Фауст». Ну я и подумала… А в чем дело — понятия не имею…
Вполне возможно, здесь опять некоторая аберрация. Сейчас я специально пишу об этом эпизоде, поскольку знаю, что он имеет непосредственное отношение к делу. Может показаться, что я и тогда обратил на него особое внимание — так нет же, ничего подобного! Конечно, я удивился, но через полчаса и думать об этом забыл.
До спектакля оставалось несколько часов…
О том, что случилось в театре, я рассказываю с чужих слов. Меня там, к счастью, не было. С другой стороны, рассказ этот столько раз повторялся, и я столько раз его слышал, что в конце концов представлял случившееся так ясно, как будто видел все собственными глазами.
Итак… «Театр уж полон…» Что там блещет, а что кипит — не знаю, сейчас все смешалось. В общем — полный аншлаг. И весь «бомонд», как я понимаю, в наличии — от политического до эстрадного.
Про сам спектакль я так ничего и не понял. Про него, в общем, никто и не рассказывал. Всем стало на него наплевать — слишком сильным оказалось впечатление от событий, развернувшихся во время этого несчастного спектакля. (Кстати, Домби и Фельз заплатили громадную неустойку и уехали на следующий же день.) По каким-то обрывкам фраз можно было догадаться, что зрелище было впечатляющее, но кажется, в основном благодаря фокусам, а не гениальным режиссерским идеям. Домби работал с полной отдачей: зажигал пальцами факелы, материализовался из воздуха в разных точках сцены и зрительного зала и так далее и тому подобное. Настал черед сцены в соборе. Декорация изображала готические своды. Играл орган — хорал Баха, музыка торжественная и величественная. И вдруг как будто сквозь него, временами, почти незаметно, стал прорываться визгливо-непристойный мотивчик, отдаленно напоминающий «Цыпленок жареный…» В разных концах зала откуда ни возьмись появились «рядовые» чертенята и заметались между рядами, то и дело с треском взрывая хлопушки-бомбочки. По залу поплыл голубоватый дымок. И тут на сцене появился новый и совершенно неуместный персонаж — невысокий человечек в нормальном, современном костюме. Лицо его было искажено от ужаса. Это был директор театра, которого, разумеется, в тот момент мало кто узнал. Он бросился к самому краю сцены, пытаясь что-то сказать, но странная музыка, которая сильно била по нервам, полностью заглушила его слова. Тогда человечек быстро замахал руками, подавая кому-то знаки. Музыка смолкла, наступила неожиданная и потому почти неестественная тишина, и в этой тишине отчетливо прозвучал его голос:
— Господа, только что нам позвонили и сообщили, что в зрительном зале заложены бомбы с отравляющим газом. Я прошу всех немедленно покинуть театр.
По свидетельству очевидцев, он даже не сказал классического «без паники!». Какое уж тут — «без паники»! Не завидую я этому несчастному директору, которому пришлось принимать решение экстренно и в одиночку. Конечно, после такого объявления могла начаться Ходынка. Но лучше так, чем несколько сотен отравленных людей. А времени на размышления не было, и ждать специалистов тоже было некогда…
Разумеется, началось светопреставление. Все повскакали с мест и ринулись на выход. Шум, грохот, вопли, давка. Один из чертей, так и торчавших в зале, случайно взорвал очередную хлопушку. Раздались истерические крики. И тут же, словно отвечая этой хлопушке, хлопнуло еще несколько, значительно громче прежних. Зал заволокло едким дымом. В ту же секунду почему-то вновь зазвучала та же безумная музыка. Наверное, в суматохе кто-то случайно нажал на кнопку. Можно себе представить, насколько кстати пришелся этот бесовский аккомпанемент! В общем, ад, да и только.
Как ни странно, самодеятельная эвакуация прошла без больших потерь. Кажется, кому-то что-то все-таки сломали, но на фоне угрожавшей опасности это сочли пустяками даже сами пострадавшие. Через пятнадцать минут в зале не осталось ни одного человека. Я хочу сказать: ни одного живого человека. Потому что в ложе остался мужчина с простреленной грудью. Это был мой отец.
Опустим все эмоции и переживания. Я еще в самом начале сказал, что собираюсь писать детектив, а не психологическую прозу. Скажу лишь, что последующие полторы-две недели прошли для меня как в тумане или еще точнее — во сне; мне все мерещилось, что я вот-вот проснусь, и выяснится, что ничего не было. Ужасно хотелось лечь носом к стенке и ни о чем не думать. Но это, конечно, было невозможно. Выяснилось, что, когда человек умирает, родственникам приходится решать массу проблем — раньше я этого не понимал. Мы с матерью делали все, что требуется, — но как-то на автопилоте, плохо соображая, что к чему. Мать, при всей ее железной выдержке, была не в лучшем состоянии, чем я. Разумеется, нам помогали разные люди…
Не помню, говорят ли про похороны — «пышные». Если