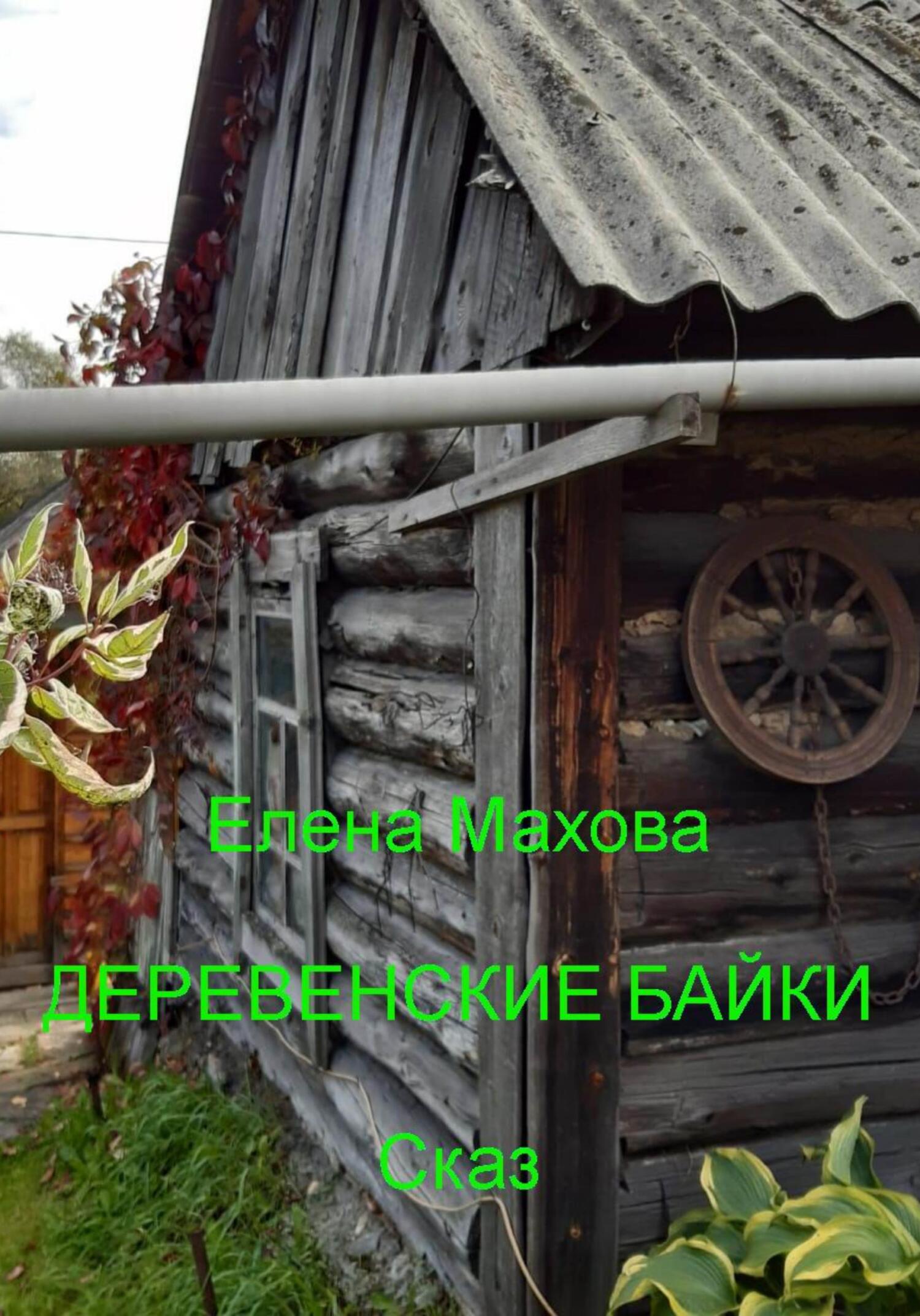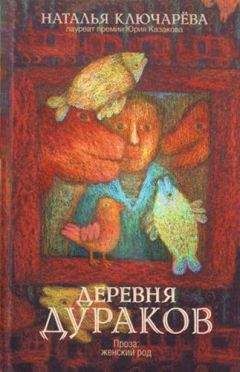Мария, женщина исключительного ума, бросит вас только из-за того, что в несуществующем аккаунте вы целуетесь с этой как бы адвокатессой.
– Я не поверил.
– Поверили. Вы коньяк-то пили, стало быть, поверили.
Гуров скрипнул зубами.
– Или, скажем, кто-то, – изрядного ума! – вложил недоумку Аслану в карман шприц этот. Кто это? Откуда взялся? Сам бы он ни за что не допетрил. Стало быть, нельзя человека закрутить-заставить-задурить, если он сам не хочет, а? Асланчика-то кто пить заставлял? Неужели я?
– Ты его отравить пытался.
Мацук на глазах съежился, постарел, принял какой-то постный, торжественный вид и, когда заговорил, даже зашамкал по-стариковски:
– Я, сударь вы мой, сам долгое время лечился от винопития и привез другу детства капельки, чтобы соблазну противостоять. С молитовкой в рюмочку двенадцать капелек – по числу апостолов, – и никаких соблазнов! Раз-другой – и от одного запаха воротить будет. Хорошие капельки, в лавках без рецептов продаются.
– Браво, Мацук.
– Алексеев, – поднял тот палец.
– Да все равно. В таком случае, если никто ни в чем не виноват, по какому праву ты сам мстишь невинным людям?
Мацук прищурился:
– Кому это?
– Ну как кому – Аслану, Рустаму, отцу Федору. Если они не виноваты.
Лицо задержанного перекосилось, налилось страшной злобой, потеряв мало-мальски людской образ, словно вылезла на поверхность та самая сущность, которой кишмя кишела, переполнена была душа этого несчастного человека.
– Имя этого при мне не упоминай, – прорычал он, скалясь волком, – он-то во всем и виноват, святоша хренов. Он специально выждал до нуля часов одной минуты, знал, паскудник, все знал – и своих выгораживал…
Спохватившись, Мацук провел руками по лицу, точно снова натягивая маску.
– Лев Иванович, – снова заговорил он прежним голосом, – но вы же не будете отрицать, что протоиерею Федору, он же Тугуз… Кстати, знаете, что это слово значит на адыгейском? Волк. Вот такой вот Тугуз, в овечьей шкуре. Ну да ладно. Вы же не будете утверждать, что отца Федора я пальцем не тронул?
Гуров покачал головой:
– Нет, не буду.
– Ни волов его, ни рабов его, ни близких, ни детей – я точно никого не трогал? – уточнил он.
– Он очень любил Арутюнова и Нассонова.
– Ну это его личное дело, – отмахнулся Мацук. – Он как педагог и христианин обязан был всех любить, а любил выборочно. Я-то тут при чем?
– Ни при чем, ты прав, Сергей.
– Константин.
– Сергей, – повторил Лев Иванович. – Я лично желаю говорить с Сергеем. Можно его позвать?
Мацук на мгновение смотрел озадаченно, потом расхохотался:
– Слушайте! Вы не только перечитали старых детективов, вы триллеров пересмотрели! Сергей умер, нет Сергея. Есть Константин, с ним и разговаривайте. Если что-то Сергею передать, так это вам к медиуму какому-нибудь нужно.
– Сергей! – негромко, уверенно повторил Гуров. – Послушай меня, Сергей. То, что ты делаешь, названия не имеет. Это не по-людски. Пистолет твой надежно спрятан, не всплывет. Со своей стороны я не буду заявлять о том, что ты пытался меня убить – человека, лично тебе ничего плохого не сделавшего. Это все, что я могу сделать для тебя, чтобы ты в себя пришел, чтобы перестал свою жизнь тратить на то, чтобы других губить. Подумай. Ты умница, очень образованный человек, талантливый, еще молодой и сильный. Ты много хорошего можешь сделать. Не надо так глупо поступать, так бездарно жизнь свою тратить. Как это там, про таланты, в землю закопанные? Не хуже меня знаешь. Нехорошо.
По мере того как размеренно, спокойно звучал голос сыщика, в лице Мацука как бы что-то прояснялось, как будто с грязного, испоганенного окна постепенно, слой за слоем, смывали скверну, и вот уже совсем немного – и забрезжит сквозь стекло хотя бы какой-то свет. Но, к сожалению, ничего подобного не произошло.
– Единственное, в чем меня в самом деле можно обвинить, – это в хранении оружия и покушении на вашу жизнь, – процедил сквозь зубы Сергей. – Да, в этом вы правы. Покушался, ибо психанул. Хотите – предъявляйте, ваше право. Что, думаете, я вам ноги целовать буду?
– А кто тебе сказал, что мне это надо?
Мацук встал, прошелся туда-сюда, разминаясь. Гуров невольно подумал, как же не похож этот человек на компьютерного гения – ловкий, сильный, жилистый, ни одного лишнего движения, каждое выверено.
«А ведь мне чертовски повезло тогда, в Раушене. Ох, если бы не Станислав…»
– Не волнуйтесь за меня, Лев Иванович, – хмуро начал Сергей-Константин. – Я тут надолго не задержусь. Есть, знаете ли, люди, которые и меня, несуществующего, уже за жабры держат. И не обращайте внимания на мои грубости – находит иной раз. За ваше доброе ко мне отношение я вам очень благодарен, потому что мало чего-то подобного в жизни видел. Только немного мне осталось – вот уж не могу сказать, тут или вообще на земле. Простите, если в чем виноват лично перед вами.
…Гуров вернулся обратно на пост. Станислав с дежурным играл в шахматы.
– Ну как, исповедник с «наганом»? Было интересно и полезно? – спросил Крячко, задумчиво покачивая рукой, в которой держал шахматную фигуру.
– Не ставьте, Станислав Васильевич, – предупредил дежурный, весьма довольный собой. – Не дам переигрывать.
– Нехороший ты человек, Соловьев, – горько констатировал Крячко. – Лева, ну что, как, заяву-то будешь подавать?
– Нет, не буду, – сказал Лев Иванович.
– Поня-я-я-ятно, – протянул Крячко. – Снова психология и выявление личных мотивов…
– Шах, – сообщил Соловьев.
– Ну что ж такое, а! – возмутился полковник. – А во-от так?
Ответ был кратким:
– Мат.
– Все, – решительно сказал Крячко, смешивая фигуры, – пошли отсюда.
– Шахматы бы оставили, товарищ полковник. Сто лет ведь не играл, – попросил дежурный с ноткой издевательства в голосе.
– Не оставлю, – буркнул Станислав, – а то поведешься вон, пойдешь к задержанному играть, так он тебя за игрой-то этой и проклянет на три поколения – выиграешь ли, проиграешь – все едино.
– Да вы что?
– Не человек – зверь, – уверил Крячко. – Ладно, господин полковник, давай по домам.
В понедельник Гуров, вызвав врача, получил больничный на пять ближайших дней и три из них провел за едой, чтением и сном. На четвертый заехал Крячко, привез продуктов и последние новости:
– Да-а-а-а, болящий ты наш, вовремя ты свалился. Друг наш, который Мацук, он же Станиславский…
– Алексеев.
– Неважно… ну вот, как ты ушел, через четыре часа в аккурат нашли его холодным, как судака.
– Шутишь? – переспросил Гуров.
– Кой леший мне шутить? – ответил Крячко. – Меня-то там, сам понимаешь, не было. Однако, судя по рапортам, скончался. Какая-то врожденная хрень разорвалась. Ну, неважно. Короче говоря, помер наш Мацук, он же Алексеев.
– Ну, ему не привыкать, – вяло ответил Лев Иванович.
– Ты наконец стал циником, – с удовлетворением констатировал Станислав,