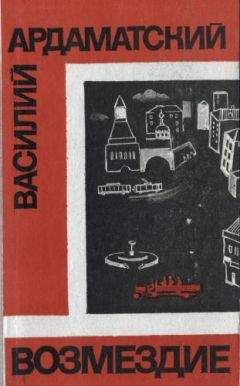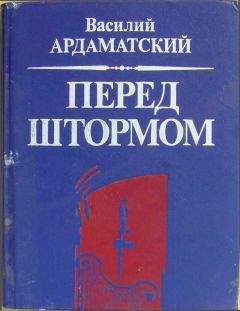— Здесь не место для торговли Россией, — Савинков встал и быстро пошел к выходу.
Минут десять стоял он в темноте улочки, но никто из кабака не вышел. Эванс проявил характер — не пошел за Савинковым сам и не пустил Деренталя. Но он прекрасно понимал — кабак не место для серьезных переговоров…
Спустя час Деренталь прибежал к Савинкову домой возбужденный и будто ни в чем перед ним не виноватый.
— Все-таки они наглецы, — начал он с порога. Он уже успел хорошо продумать все, что будет говорить. — Ну каковы наглецы? Как бульдоги, мертвой хваткой берут за горло!
— Вас взяли за горло? Куда же смотрела парижская полиция? — спросил Савинков.
— Он позвонил мне и сказал, что хочет встретиться по крайне важному для вас, Борис Викторович, делу. И назвал адрес. Только там я увидел, что это за местечко, но я уже был схвачен за горло. Как вы нашли нас? Это же просто волшебство какое-то! Даже мистер Эванс задумался над этим. Но я сказал, будто это я предупредил вас, куда я отправлюсь, такой, мол, у нас порядок.
— А почему бы такой порядок иметь не в воображении, а в жизни?
— Но, Борис Викторович, какая наглость! Предложить нам превратиться в американскую шпионскую контору!
— Что это вы вдруг стали так щепетильны? Разве мы не занимаемся такой же работой для Франции, для Англии и даже для Польши?
— Но только для того, чтобы иметь возможность бороться за свои политические идеалы!
— А если мы сговоримся с Америкой, эти возможности увеличатся? — снова спрашивает Савинков, и Деренталю не понять: всерьез или чтобы уязвить.
— Да нет же! — Деренталь совершенно не понимает позиции шефа и боится развития разговора в этом направлении. — Наглецы! Этот недоносок позволил себе нашу борьбу назвать мышиной возней!
— Вы ему дали по физиономии?
Деренталь молчит.
— Значит, не дали? А почему? — Савинков несколько секунд подождал. — Не хотите сказать правду? Так слушайте ее от меня. Вы потому не сделали этого, что сами так информировали его о наших делах.
Деренталь действительно информировал американца об их делах в довольно мрачных красках, но он думал, что это поможет им получить доллары. Он хочет объяснить это, но Савинков поднимает руку:
— Не надо, Александр Аркадьевич. Меня очень печалит происшедшее. И конечно, не хулиганство американца. Все же спасибо, хотя и за позднюю, информацию. А теперь, прошу вас, оставьте меня одного.
Деренталь был так взволнован и испуган всем случившимся, что, вернувшись в свой отель, против обыкновения зашел к жене.
— Люба, сходите сейчас же к Борису Викторовичу, я оставил его в весьма дурном состоянии… — сказал он довольно просто то, что в другое время не смог бы произнести.
У Савинкова настроение было отчаянное. Собственно, ничего неожиданного не произошло, но вдруг он как-то особо остро почувствовал свое одиночество, опасную зыбкость почвы под ногами. Все вокруг ненадежно. Даже недавние друзья и соратники. А главное — сам он существует, словно отброшенный от всего конкретного и реально измеримого, и движется по какой-то своей, никого уже не интересующей и бесполезной орбите. А в это время за его спиной совершаются какие-то сделки и даже его самого продают кому-то. Пока его по-настоящему не продали, надо действовать, и действовать там, где его главный исторический фронт, — в России. Если бы только здесь был Серж! Все было бы в тысячу раз проще! Он верит только ему, своему верному спутнику на всех дорогах жизни и борьбы…
Когда Савинков начинает думать об этом, он старается найти миллион объяснений, почему не уехал в Россию до сих пор. Старательно и стыдливо он отталкивает от себя самое точное объяснение — страх перед новой Россией — и придумывает все новые и новые объяснения. Целыми вечерами сидит он над письмами оттуда, стараясь найти между строк, в подтексте неведомое ему новое, что возникло в большевистской России, то, что стало ее явной силой, заставляющей западные державы одну за другой менять свое отношение к ней. Он всегда бравировал тем, что хорошо знает главную силу России — русского мужика. А теперь? Разве он знает сегодняшнего русского мужика? Да и знал ли он того вчерашнего, раз не нашел у него поддержки раньше, во время неудавшегося похода в Россию?
Россия, так и не узнанная им, вновь удаляется, уходит от него, а он, как видно, уже состарившийся, придумывает причины, чтобы не быть с Россией. Нет, не будет этого больше! Довольно! Надо все послать к чертям — и сомнения и страхи! Но легко это только сказать… Принять такое решение в одиночку страшно. А вот так сложилось: шли годы, вокруг него все время роились какие-то люди вроде Шевченко или Философова, а когда наступила решающая пора, ему не на кого опереться, некому целиком довериться…
Савинков не сразу услышал звонок в передней, подумал, что это телефон, и решил не подходить. Звонок повторился, и он, открыв дверь, увидел Любу. Она была в зеленом коротком пальто. Из-под больших полей серой шляпы на него тревожно смотрели ее глаза — темные, блестящие, родные… Он порывисто обнял ее за плечи и молча прижал к себе. Потом оттолкнул и, держа за плечи и глядя ей в глаза, спросил тихо:
— Тебя послал Александр Аркадьевич?
Люба промолчала. Она сделала движение к нему, но он отпустил ее и холодно сказал:
— Ну, проходите, проходите же… — и сам первый пошел вперед.
И вот они молча сидят за столом друг против друга, уже много сказавшие друг другу о своей любви, но так и не ставшие близкими. Что же помешало им перейти эту черту и отдаться страсти? О, как все не просто, боже мой! Сначала этого страшилась и упорно избегала однажды уже обманувшаяся Люба. Но теперь она не испытывала былого страха и хотела быть для него единственной на свете во всем, во всем… Она интуитивно по-женски видела, что ему сейчас трудно, и чувствовала, как он одинок. Она всегда ревновала его к красавцу Сержу, а сейчас готова была сама сделать все, чтобы Павловский снова был рядом с ним.
Когда Деренталь зашел к ней в ее дешевый номер отеля «Малахов» и сказал, чтобы она шла к Борису Викторовичу, что ему плохо, она пошла не раздумывая, решившись на все. Весь этот день она была одна, тосковала и думала только об одном — о нем, об обманутых своих чувствах и надеждах. Но сейчас она видела и чувствовала, что она ему не нужна… Он был раздражен, и она наивно объяснила это тем, что это он сам попросил Деренталя прислать ее, а теперь жалел об этом.
— Я сама хотела прийти к вам, — сказала она тихо. — Я так тосковала одна… весь день…
— Я тоже был дома, и звонок в мою квартиру и мой телефон в исправности… — Савинков встал, натянутый, костяной. — Я провожу вас. Уже поздно…
Это было выше ее сил. Слезы хлынули из глаз. Но он не смотрел, не видел ее. Их медленные шаги гулко отдавались в ущельях пустынных улиц. Савинков вел ее под руку, но она не чувствовала ни нежности, ни тепла.
— Мне так хочется заснуть и не проснуться! — сказала она.
— А утро-то всегда мудренее вечера, — насмешливо сказал он.
И опять они долго шли молча.
— Я не могу больше так жить, — сказала она.
Савинков покосился на нее удивленно, чуть крепче прижал ее локоть и сказал:
— Смею вас заверить, мне тяжелее, чем вам, но я живу и буду жить, уповая, надеясь.
Савинков думал сейчас о том, что вот даже своей любви он не может довериться слепо и безраздельно. Уходя от своей последней жены, он сказал ей, что ему нужна женщина, которая видела бы все только его глазами, понимала все только его умом и чувствовала его сердцем мир и свою собственную жизнь в нем. Это прозвучало красиво, но его умная жена в ответ только высказала опасение, как бы не потратил всю свою жизнь на поиски такой женщины, и добавила, что гораздо проще и дешевле завести послушную собаку…
Та ли женщина Люба, о которой он тогда говорил? Он помнит ее в революционном Питере — совсем юную, необыкновенно красивую, но и необыкновенно далекую от всего, что тогда было его бурной жизнью. Он помнит ее в Москве, когда он прятался в ее доме, она была заботливой и безмолвно влюбленной в него — он это видел. Но ему тогда было не до любви. Он помнит ее слепо храбрую в далеком и путаном пути из Москвы через Рыбинск и Казань в Сибирь и оттуда в Париж… Ничего плохого о ней он не знает. Разве только то, что она так легко стала женой пустого Деренталя. Но та ли она женщина, о которой он мечтал? Может ли он сейчас в своем страшном одиночестве опереться на нее, безгранично ей довериться?
— Дозвонился к вам Философов? — вдруг услышал он голос Любы.
Савинков остановился:
— Когда?
— Около часа назад. Он звонил мне в отель и справлялся, где вы. У него что-то важное.
— Что же вы, черт возьми, до сих пор молчали? — рассвирепел Савинков.
Он возвращался домой почти бегом и еще с лестницы услышал, как надрывается телефон в его квартире. Это звонил Философов.