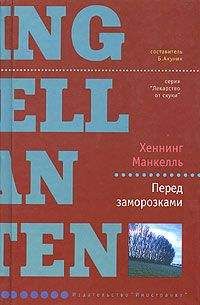Не доезжая до дома, где мать Анны сочиняла свои странные музыкальные произведения, она свернула к дому, где до самой своей смерти жил дед. Она поставила машину у двора и вышла. С тех пор как Гертруд, вдова деда, переехала к своей сестре, у дома сменилось двое хозяев. Сначала был молодой человек, владелец компьютерной в Симрисхамне. Предприятие его разорилось, и он продал дом супругам — художникамв по керамике из Хускварны — те мечтали переехать в Сконе. Теперь у калитки висело объявление: «Горшки». Дверь в сарай, где дед писал свои картины, была открыта. Она поколебалась, но все же открыла калитку и пошла по газону. На веревке сушилось детское белье.
Линда побарабанила по открытой настежь двери. Женский голос пригласил ее войти. Прошло несколько мгновений, прежде чем глаза ее после яркого солнца привыкли к слабому освещению мастерской. У гончарного круга сидела женщина лет сорока и кромсала ножом глиняную физиономию. Похоже, она занималась ухом. Линда представилась и попросила прощения за беспокойство. Женщина отложила нож и вытерла руки. Они вышли на солнце. У женщины было очень бледное лицо, казалось, она страдает бессонницей. Но держалась она очень дружелюбно.
— Я слышала о нем. Он сидел тут и писал картины, похожие друг на друга, как две капли воды.
— Не совсем так. У него было два мотива. Пейзажи с глухарем и без глухаря. Озеро, заход солнца, несколько деревьев. Для всего, кроме солнца, у него были шаблоны, а солнце он рисовал от руки.
— Иногда кажется, он все еще здесь. Он часто злился?
Линда удивленно поглядела на нее.
— Иногда мне кажется, что кто-то ворчит.
— Если ворчит — тогда это он.
Женщина представилась — ее звали Барбру — и предложила Линде выпить кофе.
— Спасибо, мне нужно ехать. Я остановилась просто из любопытства.
— Мы приехали сюда из Хускварны, — сказала Барбру. — Подальше от города, хотя Хускварна тоже не мегаполис. Ларс, мой муж, — это новое поколение мастеров на все руки. Он умеет чинить велосипеды, часы, прекрасно ставит диагнозы заболевшим коровам и сочиняет для детей волшебные сказки. У нас их двое.
Она прервалась на полуслове, как будто упрекая себя, что слишком много рассказывает чужому человеку, и задумалась.
— Сказок им больше всего не хватает, — сказала она.
Она проводила Линду к машине.
— То есть он здесь больше не живет? — осторожно спросила Линда.
— Он очень многое знал и понимал, но не все. Не понимал, например, того, что от детей никуда не денешься. В один прекрасный день его охватила паника, он сел на велосипед и уехал. Теперь снова живет в Хускварне. Мы иногда общаемся по телефону. Теперь, когда на нем не лежит ответственность, он относится к детям лучше.
Они расстались у машины.
— Если ласково попросить деда не ворчать, он обычно соглашался — но просить должна была женщина, мужчин он просто не слушал. Пока он был жив, дело обстояло именно так. Может быть, и теперь тоже.
— Он был счастлив?
Линда подумала. Вряд ли это слово подходило к деду, как она его помнила.
— Самым большим удовольствием в жизни для него было сидеть там в полумраке и заниматься тем же, чем вчера. Ему почему-то очень нравилось повторять самого себя. Если это можно назвать счастьем, то он был счастлив.
Линда открыла машину.
— Я похожа на него, — улыбнулась она. — Иначе откуда бы мне было знать, как с ним управляться…
Отъезжая, Линда посмотрела в зеркало. Барбру стояла и глядела ей вслед. Никогда, подумала она. Я — никогда. Сидеть в старом, продуваемом насквозь старом доме, одной с двумя детьми… Никогда.
Ее почему-то очень разволновал этот визит. Сама того не заметив, она увеличила скорость, а потом резко затормозила у выезда на главную дорогу.
Мать Анны, Генриетта Вестин, жила в доме, словно присевшем на корточки, прячась позади стерегущих его огромных деревьев. Линде пришлось несколько раз сдавать назад, пока удалось наконец найти нужную подъездную дорогу. Наконец она поставила машину у ржавой сенокосилки и вышла. Жара вызвала в памяти картинки каникул в Греции — они туда они ездили с Людвигом, когда еще не расстались. Она тряхнула головой, отгоняя эти мысли, и пошла вперед между гигантскими деревьями. Вдруг она остановилась и посмотрела наверх, прикрывая рукой глаза от солнца. Сверху доносился какой-то странный треск, как будто кто-то с невероятной скоростью забивал гвозди. Поискав глазами, она увидела в густой листве дятла, упорно выколачивающего свой виртуозный ритмический рисунок. Может быть, он составляет часть музыки Генриетты. Если я правильно поняла Анну, ни один звук не проходит мимо ее внимания. Дятлу, наверное, поручена партия барабана.
Она отвела взгляд от птицы-ударника. Дальше путь лежал через огород — жалкий и запущенный, им, похоже, уже много лет никто по-настоящему не занимался. Что я о ней знаю? — спросила себя Линда. И вообще, что я здесь делаю? Она остановилась, проверяя свои ощущения. В этот момент никакой тревоги она не чувствовала. Наверняка всему найдется объяснение. Она повернулась и пошла к машине.
Дятел вдруг перестал трещать и исчез. Все исчезает, подумала Линда. Люди и дятлы, время… я думала, что у меня его много, но оно утекает рекой, и плотину построить не удается. Она дернула себя за невидимые поводья и остановилась. Почему я повернула? Если уж взяла Аннину машину, надо хотя бы навестить ее мать. Никак не выказывая беспокойства, просто поинтересоваться, не знает ли Генриетта, где Анна. Может быть, она просто-напросто поехала в Лунд. У меня нет ее телефона там, в Лунде. Вот я и попрошу Генриетту мне его дать.
Она опять повернула к дому. Дом был бревенчатый, белый, он утопал в розовых кустах. На ступеньке крыльца лежал кот и внимательно за ней наблюдал. Она подошла к дому. Одно окно было открыто. В тот момент, когда она нагнулась, чтобы погладить кота, из дома донеслись какие-то звуки. Это, наверное, ее музыка, подумала Линда.
Потом резко выпрямилась и затаила дыхание.
Это была не музыка. Это был женский плач.
В доме залаяла собака. Линда испугалась, что ее застанут за подслушиванием, и поспешила позвонить в дверь. Дверь открыли не сразу. Генриетта удерживала за ошейник захлебывающегося лаем пса.
— Он не кусается, — сказала она. — Заходи.
Линда побаивалась незнакомых собак. Она нерешительно вошла в прихожую. Как только она переступила порог, пес тут же успокоился, словно она перешла какую-то невидимую границу, за которой можно было уже не лаять. Генриетта отпустила пса. Линда смотрела на нее — она показалась ей еще меньше и худее, чем раньше. Что говорила Анна? Что Генриетте нет еще и пятидесяти? Ее тело казалось старше этого возраста, но лицо было молодым. Пес по имени Пафос понюхал ее ноги, отошел к своей корзине и вытянулся на полу.
Линда пыталась увидеть в лице Генриетты следы слез, но ничего не заметила. Поглядела в глубь дома — никого, кроме хозяйки, не было. Генриетта перехватила ее взгляд.
— Ты ищешь Анну?
— Нет.
Генриетта засмеялась:
— Слава богу. Сначала ты звонишь, потом приезжаешь. Что случилось? Не нашлась еще Анна?
Линду застало врасплох ее прямодушие, хотя оно и облегчало ее задачу.
— Пока нет.
Генриетта пожала плечами и проводила ее в огромную комнату, появившуюся в результате сноса нескольких перегородок. Это была и гостиная, и кабинет одновременно.
— Она наверняка в Лунде. Анна взяла за привычку прятаться там время от времени. Все эти теоретические науки у медиков ужасно сложные. Анна не теоретик. В кого она такая, понятия не имею. Ни на меня, ни, тем более, на отца не похожа. Наверное, только сама на себя.
— У вас есть ее телефон в Лунде?
— Не уверена, что у нее там есть телефон. Она снимает комнату. Но у меня даже адреса ее нет.
— Странно.
Генриетта сделала удивленную мину:
— Почему странно? Анна вообще загадочная личность. Если ее доставать, она может прийти в дикую ярость. А ты не знала?
— Нет. А мобильника у нее нет?
— Она из тех немногих, кто сопротивляется этому поветрию. У меня, например, мобильник есть. Я теперь даже не понимаю, зачем мне стационарный телефон. Но Анна — нет. Ни за что не хочет.
Она замолчала, как будто ей вдруг пришла какая-то мысль. Линда еще раз огляделась. Кто-то все же плакал! До того, как Генриетта спросила, не ищет ли она тут Анну, ей даже мысль такая в голову не приходила. Конечно, это была не Анна — с чего бы ей сидеть тут у своей матери и рыдать? Я вообще никогда не видела, чтобы она плакала — она не из тех, кто плачет. Как-то в детстве она упала и сильно ушиблась. Тогда она плакала. Но это был единственный раз. Когда мы обе влюбились в Томаса, плакала я, а она злилась. Но в «дикую ярость», как сказала Генриетта, она не приходила.
Она разглядывала Генриетту, стоявшую напротив нее на отциклеванном до блеска деревянном полу. На лице ее плясал солнечный зайчик. У нее такой же четкий профиль, как и у Анны.