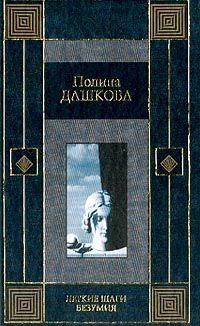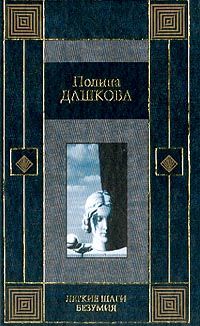Ознакомительная версия.
— Лена Полянская? — осторожно спросил голос в трубке.
— Кажется, Полянская. Точно не помню.
— Тебе неприятно было с ней разговаривать?
— Неприятно. Я сказала, что, если она такая добрая и хочет меня пожалеть, пусть лучше денег даст. А теперь стыдно. Я чувствую, скоро начну у всех просить. Пока ампулы остались, но надолго не хватит. Я боюсь. Я не выдержу.
— Ты выдержишь, деточка, — голос в трубке был спокойным и ласковым, — продолжай, пожалуйста.
— Потом было застолье, все в тумане, даже не помню, кто отвез меня домой. Только осадок остался, что я попросила денег у чужого, малознакомого человека. Я больше всего боюсь, что начну просить. И еще — мне больно, когда думают плохо о Мите. Я ведь знаю, точно знаю, он не кололся. А эта женщина углядела царапины у него на руке.
Она на похоронах все время с их бабкой была, за плечи ее держала, успокаивала. Бабка — камень, ни слезинки не уронила, и вообще, все они каменные. Никто по Митеньке не плакал, только я. Ольга думала, я истерю потому, что мне надо уколоться. Она даже не понимает, как можно плакать по человеку, только и забот у нее — чтобы драгоценные детки не заметили ничего, чтобы никто не знал о том, что я колюсь.
У них всегда так, лишь бы внешне все было спокойно и прилично, а как на самом деле, им наплевать. Я ведь тоже человек, я живая, а меня никто не пожалел. Полянскую специально Ольга позвала, ее старуха любит… А меня никто теперь не любит. У Полянской муж ночью в Англию улетает, я слышала разговор, и дочь у нее есть маленькая. Лизой зовут. У всех все есть, а у меня — ничего. Отцу с матерью я давно не нужна, Митька бросил меня. Он ведь меня бросил, таким вот жутким способом. Надоело ему со мной возиться, все его нервы и силы сожрали мои наркотики. А уйти, развестись он не мог, характера не хватало. Господи, что я такое говорю? — Будто спохватившись, Катя открыла глаза и потянулась за следующей сигаретой.
— Не волнуйся, деточка. Что говорится, то и говорится. Ты же помнишь наше условие: все плохое надо заворачивать в слова, как мусор в газету, и выбрасывать вон. Тогда душа очищается. — Голос в трубке звучал мягко, баюкал, утешал. — Катенька, надо тщательно проговаривать все, ничего не забывать.
— Может, мне в церковь пойти? — неожиданно спросила Катя. — Может, вообще, в монастырь? Это ведь лучше, чем в петлю.
— Ты сейчас не отвлекайся, деточка, если будешь отвлекаться, не сможешь уснуть всю ночь. А поспать тебе надо. Прежде всего надо как следует выспаться. Продолжай, не отвлекайся. Ты обиделась на Полянскую, она заметила царапины на Митиной руке. О чем вы еще с ней говорили?
— Ни о чем. Она поняла сразу, что разговор мне неприятен. Она спешила домой, муж у нее ночью в Англию улетает, и дочка маленькая… Она даже за стол потом не села, только к бабке в комнату зашла попрощаться… Бабка уже к себе ушла, легла… А потом вообще ничего не было, я не помню.
— Ольга видела царапины на Митиной руке?
— Не знаю. Ольга со мной вообще не говорила. Она еле терпит мое присутствие. Мне кажется, она только и думает, почему это случилось с Митей, а не со мной. Она хотела, чтобы это я в петле болталась. Конечно, так было бы всем лучше, и мне тоже… И еще — Ольга не верите что Митя это сам сделал. Полянская, по-моему, тоже не верит. Им кажется: помогли ему.
— Они говорили тебе это? Спрашивали о чем-нибудь?
— Ольга спрашивала подробно, как мы день провели и вечер, что делали — по минутам. Но давно, не сегодня. Я не помню, когда именно. Просто осталось ощущение, что она меня мучает, жилы из меня тянет.
— А Полянская?
— Полянская только про царапины спросила.
— Так почему ты решила, будто она не верит, что Митя покончил с собой?
— Мне так кажется… Я не знаю… у меня такое чувство, будто они все меня считают виноватой.
— Ты слышала какой-нибудь разговор? С чего ты взяла…
— Господи, ну разве это важно, кто что думает? — выкрикнула Катя в трубку. — Пусть они думают что угодно и обо мне, и о Мите. Какая теперь разница?
— Ладно, деточка. Не заводись. Я вижу, тебе уже лучше. Сейчас ты положишь трубку и пойдешь спать. Ты будешь спать крепко и сладко. Ты заснешь сразу, уколешься на ночь и проспишь очень долго. Ты будешь спать долго и крепко, ты уже сейчас очень хочешь спать. Ноги у тебя тяжелые, теплые, тебе хорошо и спокойно. Положишь трубку, сделаешь себе укол и уснешь. Все. Спать. Укол и спать.
На вялых, заплетающихся ногах Катя дошла до прихожей, где валялась на полу ее сумка-мешок. Сейчас она помнила только одно — там, в мешке, есть шприц и ампула. Там осталась одна ампула, еще две штуки лежат в ящике письменного стола и еще три — в старом футляре от Митиной электробритвы, на книжной полке. Футляр стоит на книжной полке, там есть еще три ампулы. Это Катя помнила точно, а больше — ничего.
Ей очень хотелось спать, глаза упрямо закрывались, как у куклы, которую положили на спину. Игла никак не хотела попадать куда надо, царапала кожу, но совсем небольно.
Тобольск, октябрь 1981 года
На пыльной сцене городского Дворца пионеров хореографический ансамбль отплясывал «Русскую кадриль». Мальчики в желтых шелковых косоворотках, девочки в сапожках и голубых сарафанах весело носились по сцене, подбоченясь, громко топали под заводную музыку.
Толстуха Галя Малышева, инструктор отдела пропаганды, не выдержала и стала притопывать ногой в такт, шепотом подпевать залихватской песенке:
Фабричная, колхозная, смешная и серьезная…
— Галька, перестань! — ткнул ее локтем в бок сидевший рядом Володя Точилин, инструктор по работе с творческой молодежью. — Мы же все-таки комиссия горкомовская, веди себя солидно. Вон с Вениамина бери пример.
Вениамин Волков сидел и смотрел на сцену с совершенно каменным лицом, как и подобает члену горкомовской комиссии, явившейся поглядеть на репетицию праздничного концерта, посвященного очередной годовщине Октябрьской революции.
— Классный у нас ансамбль! — хлопнув себя по широкой коленке, громко прошептала Галя. — Хоть в Москву посылай! Да и за границу можно, в Карловы Вары. Эй, товарищ завотделом культуры, ты бы посодействовал развитию молодых талантов, — весело подмигнула она Волкову.
Он ничего не ответил, даже головы не повернул в ее сторону. Он не мог оторвать своих чистых, прозрачных глаз от сцены.
По сцене летали легкие ножки солистки. Узенькие ступни, обутые в мягкие танцевальные сапожки, почти не касались пола. У многих девочек ансамбля косы были искусственные, приколотые, и даже по цвету немного отличались от их живых волос. А у солистки коса была своя, толстая, блестящая, пепельно-русая. Лиф голубого сарафана туго перетягивал тонкую талию, широкая юбка развевалась над стройными длинными ногами.
Веня видел перед собой раскрасневшееся, чуть удлиненное личико, веселые ярко-голубые глаза. Девочке было лет шестнадцать. Малышева не выдержала и восторженно зааплодировала солистке.
— Нет, ну точно их надо в Москву отправить, на какой-нибудь конкурс! Такие таланты в нашей глуши пропадают! — громко сказала она.
— Да, Таня Костылева у нас самородок, — гордо кивнул директор Дворца пионеров, сидевший рядом и внимательно следивший за реакцией членов комиссии.
Следующая репетиция будет генеральной, на нее придут из горкома партии. А на концерт обязательно заявится какое-нибудь идеологическое начальство из области. Музыка кончилась. Дети на сцене на секунду застыли в финальных торжественных позах. В зрительном зале сидело не больше десяти человек. Все зааплодировали. Все, кроме заведующего отделом культуры Вениамина Волкова. Он сидел не шевелясь и смотрел на голубоглазую солистку. В ушах его гремело: «Таня Костылева. Таня Костылева…»
— Дикий ты какой-то, Волков, — пожала пухлыми плечами Галина, — хоть бы сдвинул ладошки-то разок!
«Русская кадриль» была последним номером концерта. Теперь членам комиссии горкома ВЛКСМ предстояло пройти в кабинет директора Дворца пионеров для чаепития и обсуждения программы концерта.
— Ну, что скажете, комсомол? — спросил директор, усаживаясь во главе щедро накрытого к чаю стола. — Угощайтесь, товарищи, самоварчик горячий. Вам как, Вениамин Борисович, покрепче чайку?
«Мертвые не воскресают, — думал Веня, машинально кивая директору, — я не сошел с ума. Все просто. У Тани Костылевой был родной брат, кажется, его звали Сергей. У этого Сергея вполне может быть дочь такого возраста. И он вполне мог ее назвать в честь своей погибшей сестры Татьяной. Ничего удивительного, что девочка так похожа на ту Таню. Вовсе ничего удивительного. Это ведь достаточно близкое родство».
— Вениамин, вам нехорошо? — тихо спросила его пожилая руководительница танцевального ансамбля. — Вы очень бледный.
— А? Что? — спохватился он. — Нет, со мной все нормально.
Ознакомительная версия.