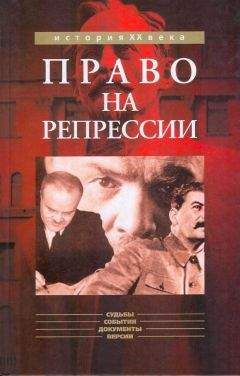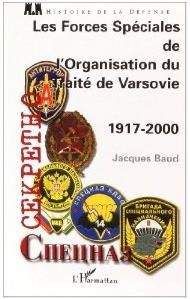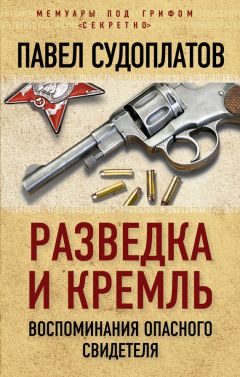Два обстоятельства, связанные с делом Берии, определенным образом замедлили поиски компромата на членов семей арестованных. И хотя невестка Берии, внучка Максима Горького, который в то время был в большом почете, развелась с мужем, после того как его вместе с матерью арестовали, а затем сослали, для властей эта родственная связь была крайне неудобна. Второе обстоятельство было связано с делом Суханова, начальника секретариата Маленкова в Президиуме ЦК и Совете Министров, который принимал самое активное участие в аресте Берии. Высшее руководство было буквально потрясено сообщением о том, что Суханов украл из сейфов Берии и его сотрудников золотые часы -- а их было восемь, -- облигации и крупную сумму денег, включая часть премии Берии за руководство работами по созданию атомной бомбы.
В 1956--1958 годах в высших кругах столицы ходили слухи о таинственных кражах, связанных с арестом Берии, и о том, куда ведут следы этих преступлений. Сейфы Берии и сотрудников его аппарата были, естественно, сразу после арестов вскрыты. По закону полагалось составить подробную опись изъятого. Однако военный прокурор Успенский и Суханов, которым помогал Пузанов (заведующий отделом ЦК партии и будущий посол СССР в Болгарии), не составили никакой описи.
Жена одного из арестованных сотрудников аппарата Берии, Ордынцева, заключенная в тюрьму, а затем освобожденная, но выгнанная с работы и лишенная средств к существованию, имела список номеров облигаций, принадлежавших ее мужу и хранившихся в сейфе у него на работе. Суханов потребовал включить в приговор суда по делу Ордынцева пункт о конфискации имущества. Но поскольку тот не являлся сотрудником госбезопасности, не имел воинского звания и не обвинялся в государственной измене (ему инкриминировали лишь недоносительство о преступных замыслах Берии), суд не включил в приговор пункт о конфискации. Тогда жена Ордынцева начала добиваться через суд возвращения облигаций. Вначале ее просьбы не получали никакого отклика, но затем Хрущев распорядился, чтобы Серов разыскал эти облигации. В это время какая-то женщина предъявила в сберегательной кассе к оплате одну из пропавших облигаций, на которую выпал выигрыш. Ее задержали. Она оказалась машинисткой, работавшей у Суханова.
Суханов вынужден был сознаться в краже ценностей из сейфов Берии и его подчиненных, за что был приговорен к десяти годам тюремного заключения. Об этом скандале, хотя никаких официальных сообщений не было, говорила вся Москва. Он подорвал доверие к следователям, которые занимались делом Берии, и даже интерес к разоблачениям всякого рода грязных интриг, которые ему приписывались, начал падать.
Положение моей жены в это время заметно улучшилось. Она научилась шить и скоро как портниха стала пользоваться популярностью среди новых друзей из мира искусства, что приносило ей дополнительный заработок. Она по-прежнему была в состоянии содержать детей и свою мать. МВД попыталось было отобрать у нас квартиру в центре Москвы, но не смогло сделать это на законных основаниях, поскольку жена была участником войны и получала военную пенсию. Анна Цуканова поддерживала жену в ее тяжбе с ХОЗУ МВД. Их тактика была простой: я еще не осужден, нахожусь в тюремной больнице и поэтому не могу быть выписан. Тогда ХОЗУ пошло на резкое повышение квартплаты, но, к счастью, жена имела возможность оплатить счета без особых трудностей.
В 1956--1957 годах ей стало ясно, что чистка в органах госбезопасности, жертвами которой стали Берия и я, закончилась. Свидетелей, которые слишком много знали, расстреляли, включая фальсификаторов уголовных дел.
Райхман благодаря вмешательству его жены, имевшей связи в кремлевских верхах, был обвинен только в превышении власти и вскоре амнистирован. Освободили из тюрьмы и Майского. Жена узнала, что Хрущев приказал исключить из партии и лишить воинских званий около ста генералов и полковников КГБ-МВД в отставке из числа тех, кто в 30-х годах, занимая руководящие должности, принимал активное участие в репрессиях или же слишком много знал о внутрипартийных интригах. В отличие от прошлых лет все эти люди, лишившись больших пенсий и партийных билетов, тем не менее остались живы -- их не расстреляли, не посадили в тюрьму. Среди них было двое отличившихся в делах атомной разведки: генерал-майор Овакимян, координировавший в 1941-- 1945 годах работу НКВД в Соединенных Штатах по сбору информации об атомной бомбе, и мой заместитель Василевский, единственным обвинением против которого была его якобы чересчур близкая связь с Берией.
Настроения в Москве явно менялись, и об этом, в частности, говорил тот факт, что Василевскому удалось восстановиться в партии. Он использовал свои прошлые связи с Бруно Понтекорво, который в это время находился в Москве и стал академиком. Понтекорво лично просил Хрущева за своего друга. Василевский и Горский, проявившие себя по линии "атомной" разведки, занялись переводом приключенческих романов с английского и французского. Некоторые бывшие офицеры госбезопасности -- при поддержке Ильина, ставшего после реабилитации в 1954 году оргсекретарем московского отделения Союза писателей СССР, -- стали писателями и журналистами. Хотя реабилитация давала право на восстановление в прежней должности, практически это оказалось невозможным. Но все же людям позволили начать новую жизнь и получить более высокую пенсию.
К счастью, мое пребывание во Владимирской тюрьме совпало с кратким периодом либерализации пенитенциарной системы, осуществлявшейся при Хрущеве. Так, мне было разрешено получать до четырех продуктовых передач ежемесячно. И хотя на первых порах я нередко терял сознание и чувствовал сильные головокружения из-за страшных головных болей, силы мало-помалу начали ко мне возвращаться. Правда, держали меня в одиночной камере, но все же полностью я не был изолирован -- имел доступ к газетам, мог слушать радио, пользоваться тюремной библиотекой.
Владимирская тюрьма была примечательной с многих точек зрения. Построенная при Николае II в начале нынешнего столетия, она использовалась как место заключения наиболее опасных с точки зрения государства преступников, которых властям всегда нужно было иметь под рукой. В сущности, ту же роль Владимирская тюрьма выполняла и при советской власти, и заключенных оттуда нередко возили в столицу для дополнительных допросов. По иронии судьбы меня поместили во втором корпусе тюрьмы, который до этого я дважды посещал для бесед с пленными немецкими генералами, отбывавшими здесь свой срок. В то время мне показали оставшуюся незанятой тюремную камеру, в которой сидел будущий герой революции и гражданской войны, один из организаторов Красной Армии, Михаил Фрунзе.
В мое время тюрьма состояла из трех главных корпусов, в которых содержалось примерно восемьсот заключенных. После 1960 года тюрьму расширили, и теперь в трех перестроенных корпусах могло находиться до тысячи человек. Режим в тюрьме отличался строгостью. Всех поднимали в шесть утра. Еду разносили по камерам: скудную пищу передавали через маленькое окошко, прорезанное в тяжелой металлической двери камеры. Голод был нашим постоянным спутником, достаточно было поглядеть в тусклые глаза заключенных, чтобы убедиться в этом. На первых порах постель поднималась к стене и запиралась на замок, так что днем полежать было нельзя. Можно было сидеть на стуле, привинченном к цементному полу камеры. В день нам разрешалась прогулка от получаса до сорока пяти минут в так называемом боксе -- внутреннем дворике с высокими стенами, напоминавшем скорее комнату площадью примерно метров двадцать, только без потолка. Присутствие охраны было обязательным. Для дневного отдыха полагался всего один час после обеда, когда надзиратель отпирал кровать. Туалета в камере не было -- его заменяла параша. Каждый раз, когда заключенному надо было пойти в уборную, он должен был обращаться к надзирателю. (Говорят, что сейчас в камерах Владимирской тюрьмы появились туалеты.) И хотя спать разрешалось с десяти часов вечера, свет горел всю ночь.
После нескольких дней заключения я стал замечать сочувственное к себе отношение со стороны администрации тюрьмы. Меня перевели из одиночной камеры в тюремную больницу, где давали стакан молока в день и, что было куда важнее для меня, разрешали лежать в кровати днем столько времени, сколько я хотел.
Довольно скоро я обнаружил, что в тюрьме было немало людей, хорошо мне известных. Например, Мунтерс, вскоре освобожденный бывший министр иностранных дел Латвии. В 1940 году, после переворота в Латвии, я отвез его в Воронеж, где он стал работать преподавателем в местном университете. Или Шульгин, за которым разведка НКВД охотилась за границей лет двадцать. После взятия Белграда нашими войсками в 1945 году бывший заместитель председателя Государственной Думы был арестован, вывезен в Советский Союз и предан суду за антисоветскую деятельность во время гражданской войны и в последующие годы.