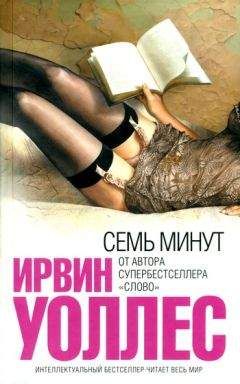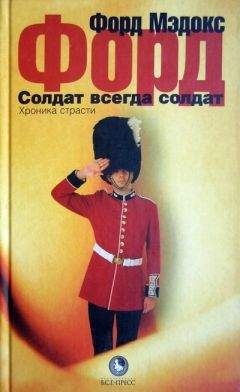Сначала она хотела встретиться с Говардом Муром, чтобы подтвердить свою догадку. Когда она встретилась с отцом Шери и обо всем рассказала, тот печально сказал, что это правда. Сразу после смерти Шери Дарлин Нельсон рассказала ему о последних словах его дочери. Да, он знал, что это была ошибка его девочки, его бедного ребенка, ее ошибка, а не Джерри. Нет, он не станет раскрывать правду, если парень не хочет этого, но если Джерри надумает изменить показания, он поддержит его в суде.
Итак, для Мэгги все сошлось клином на одном человеке.
Мэгги полетела в Чикаго на поиски Бейнбриджа. Как она и ожидала (или, по крайней мере, надеялась), вместо сенатора ей встретился Дж Дж Джадвей. По пути в аэропорт девушка рассказала великому человеку историю Джерри Гриффита. В аэропорту он наконец принял решение. Бейнбридж заявил, что если убедит Джерри признаться в правде, тогда, возможно, и сам наберется смелости сделать то же самое.
— Это все, что я могу рассказать тебе, Майк, — закончила Мэгги. — У тебя есть еще вопросы?
— Нет, — тихо ответил Барретт. — Он посмотрел в окно и увидел, что день клонится к вечеру. — Пойдем, Мэгги.
Они встали, и Барретт сказал:
— Как же ты хочешь отпраздновать победу?
— Быть с тобой.
— Тогда начнем с праздничного ужина.
Когда они пошли по проходу, девушка сказала:
— Я могу немного опоздать. Я попросила Джерри приехать в бар отеля «Беверли-Уилшир» после того, как его выпустят из тюрьмы. Сенатор Бейнбридж собирается присоединиться к нам после пресс-конференции. Знаешь, что мы хотим посоветовать Джерри? Уйти из дома и жить собственной жизнью. Обратиться за помощью к твоему доктору Файнгуду. Я буду оплачивать его счета, пока у него не появятся свои деньги.
— Думаешь, он согласится на это?
— На что?
— Жить одному?
Они подошли к дверям, и Мэгги задумалась над вопросом.
— Не знаю, Майк, не сразу. Свобода штука хитрая, и к ней непросто привыкнуть, но, когда привыкнешь, это великолепно. По себе знаю. И надеюсь, что в один прекрасный день Джерри тоже поймет это.
Они вышли в коридор.
— Если ты будешь занята, — сказал Барретт, — тогда я тоже задержусь здесь. У меня несколько вопросов к Джадвею. Я хотел бы послушать, что он говорит, если он еще не ушел.
— Ты хочешь знать все?
— Есть семь минут, — улыбнулся Майк Барретт, — и я не могу остановиться на шестой.
— Тогда до встречи.
Мэгги Рассел попрощалась и пошла по коридору.
— Только не задерживайся! — крикнул он ей вслед.
После ее ухода Барретт спросил у проходившего мимо полицейского, где находится сенатор Бейнбридж.
— Они недавно перешли на шестой этаж. Телекомпания установила аппаратуру в комнате шестьсот три, и там продолжается пресс-конференция.
Комната 603 во Дворце правосудия предназначалась для проведения пресс-конференций.
В ней стояли три стола из красного дерева. Репортер из «Лос-Анджелес таймс» уступил свое место за центральным столом сенатору Бейнбриджу.
За исключением свободного пятачка вокруг этого стола, который купался в ослепительном свете ламп, помещение было забито до отказа.
Майк Барретт смешался с толпой и прислушался.
Сенатор Бейнбридж, холодный и невозмутимый, сидел за столом и ждал вопросов.
— Итак, сенатор, съемка. Начинайте! — крикнул кто-то.
Сенатор Бейнбридж кивнул, спокойно и внимательно посмотрел в ближайшую камеру, сложил руки и невозмутимо повел свой рассказ:
— Я уже показал в суде немногим более часа назад, что в тысяча девятьсот тридцать четвертом году под именем Дж Дж Джадвея написал книгу «Семь минут». Если вас интересуют подробности, я могу обобщить мои показания и добавить несколько автобиографических деталей. Вы хотите знать всю историю, и вы имеете на это право. Видите ли, друзья, я не только ратую за свободу слова, но и извлекаю из нее выгоду, особенно теперь, когда мне нужно продавать книгу.
Барретт рассмеялся вместе с остальными. Он с радостью заметил, что сенатор тоже улыбнулся.
Потом патрицианское лицо Бейнбриджа посерьезнело.
— Я воспитывался в семье в Новой Англии. Нас было пятеро. Мой отец добился успеха своим трудом. Волевой и честный, он при этом был догматиком и большим самодуром. Мать мало чем отличалась от робкой служанки; две младшие сестры страшно боялись отца, беспрекословно выполняли все его желания и росли ужасно забитыми. На меня, наследника, отец смотрел, как на простое продолжение рода и самого себя. Он считал, что я родился только для того, чтобы помогать ему в деле и унаследовать семейное предприятие.
Моя учеба на юридическом факультете была попросту средством придать мне деловую и общественную ценность. Личностью я не был, но, прежде чем отец и его дело целиком поглотили меня, предпринял последнюю попытку выяснить, кто я таков и кем мне суждено быть. Мне пришлось проявить недюжинную смелость, чтобы потребовать у отца на год отпустить меня за границу. Я умолял его и обещал вести себя хорошо, поэтому он отпустил меня на год в Европу и дал денег. Так в тысяча девятьсот тридцать четвертом году я отправился на поиски своего «я». Путь мой лежал в Париж, откуда всегда начинаются подобные изыскания.
Я должен был доказать себе, что не только являюсь настоящим мужчиной, но и обладаю собственной индивидуальностью. До тех пор я не был мужчиной ни в широком, ни в узком смысле слова. Свободы я боялся не меньше секса. Я был импотентом и в творческом плане, и в половом. Я хотел писать и не мог. Я хотел любить, но был не в состоянии делать и это. Я хотел быть человеком со своим характером и прошлым, а не примечанием к жизнеописанию своего отца.
Первые месяцы в Париже я был беспомощным, вялым, растерянным. Я ничего не делал, ни к чему не стремился, ничего не получал. В таком состоянии я и пребывал, когда познакомился с молодой американкой, художницей, которая тоже приехала в Париж искать себя и свободу. Только она обрела их, в отличие от меня. Это была Касси Макгро. Мы полюбили друг друга. Я так никогда и не узнал, что она нашла во мне. Так или иначе, Касси полюбила и раскрепостила меня.
Я воспел Касси и нашу любовь в «Семи минутах». Пока я писал книгу, годичный срок пребывания за границей истек, и я принялся выпрашивать у отца отсрочку. Он перестал посылать деньги, и тогда мать с сестрами начали тайно поддерживать меня за счет своих довольствий. Кристиан Леру был не прав, когда сказал, что я написал книгу за три недели. Первый вариант я писал три месяца и еще три месяца редактировал и переписывал. Я не написал «Семь минут», как Клеланд «Фанни Хилл», чтобы выйти из долговой тюрьмы. Я получал достаточно денег от своей семьи.
Что касается самой книги, то все в ней основано на нашем совместном с Касси опыте. В ней нет осознанной аллегории. Я писал ее как натуралистическую повесть, отчасти навеянную творчеством двух писателей: Д. Г. Лоуренса и Джеймса Джойса.
Во-первых, возникла проблема языка. Лоуренс советовал: «Слова, которые шокируют попервоначалу, со временем перестают казаться грубыми. Думаете, потому, что сознание развращается благодаря их употреблению? Ни капельки. Просто слова шокируют глаз, а не сознание. Безмозглые люди могут всю жизнь прожить в состоянии шока, но я говорю не о них. Умные же люди, которых поначалу шокируют эти слова, сбрасывают с себя оковы. В этом все дело! Сегодня мы, как человеческие существа, давно перешагнули границы табу, унаследованные нашей культурой».
Потом нужно было преодолеть предубеждение против открытого описания различных сексуальных действий. И вновь Касси вместе с Лоуренсом указали мне выход. «Я хочу, чтобы мысли мужчин и женщин о сексе были всеобъемлющи, честны и чисты. Пусть мы не можем быть совершенно свободными в действиях, давайте хоть думать о сексе четко и ясно. Молодая девушка или юноша являет собой клубок мучительных противоречий, котел сексуальных переживаний и мыслей, который могут распутать только годы. Долгие годы честных взглядов на секс и годы борьбы за свободу секса приведут нас наконец к тому, к чему мы стремимся, — к настоящему целомудрию, когда половой акт и сексуальная мысль обретут гармонию».
Меня вдохновили эти слова. Я отбросил обиняки и прозрачные намеки, отказался от сносок и примечаний и написал правду. Перед тем как приступить к работе, я внимательно перечитал главу седьмую Песни Песней Соломона. Помните: «Округление бедер твоих как ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои, как два козленка, двойни серны». «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его». «Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони; там я окажу ласки мои тебе».