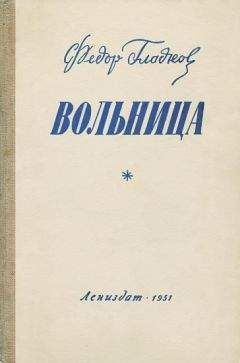- Отстань. Поеду.
- Мое добро. Не смей телегу трогать. Ты что в чужом доме распоряжаешься.
- Доноси. Пусть в мешок меня. Иди в Народный Дом. А я если успею, запрягу. Не успею, твое счастье. Доноси.
- Курва ты, а не офицер, - сказал Кирилл Михеич.
Натянул возжи Артюшка. Кожа на щеках темная.
- За кирпичами поехал. Если спросит кто. На пароход кирпич потребовался. Понял?
- Вались!..
Глазом раскосым по Олимпиаде. Оглядел и выругал прогнившей солдатской матершиной. И, толстой киргизской нагайкой лупцуя лошадь, ускакал.
- За что он тебя? - спросил Кирилл Михеич.
Не ответила Олимпиада, ушла в комнату. Как мышь, скреблась там в каких-то бумажках, а дом сразу стал длинный, пыльный и чужой. Сразу в залу выскочили откуда-то крысы, по пыли - цепкие слежки ножек. Пыльная возилась у горшков Сергевна. Глаза у ней осели, поблекли совсем как гнилые лоскутья.
Заглядывать в комнаты стало неловко и как-то жутко. Будто лежал покойник, и Олимпиада отчитывала его.
А тут к вечеру, вместе с разморенными и тусклыми лучами месяца, входило в тело и кидалось по жилам неуемное плотское желание. Бродил тогда по ограде Кирилл Михеич, обсасывал липкой нехорошей слюной почему-то потолстевшие губы.
Выпятив грудь, проводил по ограде (через забор, видно - упал забор) архитектор Шмуро генеральскую дочь Варвару - и особенно прижимал ее руку, точно разрывая что-то - знал эту голодную плотскую ужимочку Кирилл Михеич, в азиатском доме видал. Чего хотела Варвара, нельзя было узнать, шла она бойко, сверкая ярким и зовущим платьем. Гуляли они по кладбищу, возвращаясь поздно. Разговора их Кириллу Михеичу не слышно.
А в доме братья офицеры Илья и Яков бродили пьяные и в погонах. За воротами погоны снимали, и от этого плечи как-то суживались, стягивались к голове. Пили, пели студенческие песни.
Ночью пробирались в дом, близ заборов - днем боялись ходить городом дочери Пожиловой Лариса и Зоя. Тогда старый дворянский дом сразу разбухал, как покойник на четвертый день. Шел из дома тошный, тяжелый человеческий запах. Плясали, скрипя половицами. Офицеры гикали, один за другим - такие крики слышал Кирилл Михеич в бору.
Улица эта - неглавная, народа революционного идет мало. Киргизы везли для чего-то мох, овчины. Сваливали посреди базара и, не дождавшись никого, испуганно гнали обратно в степь лохматых и веселых верблюдов. Еще учитель Отчерчи появлялся. Мышиным шопотом шептал у крыльца - кого арестовали, кто расстрелян. И глаза у него были словно расстрелянные.
Яростно в мастерской катал Поликарпыч пимы. "Кому?" - спрашивал Кирилл Михеич. А пимы катал старик огромные, как бревна - на мамонтову ногу. Ставил их рядами по лавке, и на пимы было жутко смотреть. Вот кто-то придет, наденет их, и тогда конец всему.
Пришел как-то Горчишников. Был он днем или вечером - никому не нужно знать. Вместо сапог - рваные на босую ногу галоши. Лица не упомнишь. А вот получился новый подрядчик вместо Кирилла Михеича - Горчишников; какими капиталами обогател, таких Кириллу Михеичу Качанову не иметь. Купил все добро Кирилла Михеича неизвестно тоже у кого. Осматривает и переписывает так - куплено. Карандаш в кочковатых пальцах помуслит и спросит: "А ишшо что я конхфискую?" И скажет, что он конфискует народное достояние народу. Очень прекрасно и просто, как щи. Ешь. Ходил за ним Жорж-Борман (прозвание такое) - парикмахер Кочерга. Ходил этот Жорж-Борман бочком, осматривал и восхищался: "счастье какое привалило народу! Думали разве дождаться". Увидал пимы, выкатанные Поликарпычем, и отвернулся. Ничего не спросил. И никто не спросил. А Поликарпыч катал, не оборачиваясь, яростно и быстро. Шерсть белая, на нарах - сугробы... Так обошли, записали кирпичи и плахи, кирпичный завод, церковную постройку, амбары с шерстью и пимами, трех лошадей. Не заходя в дом, записали комод, четыре комнаты и надобный для Ревкома письменный стол. В бор тоже не заходили - далеко полтораста верст, приказали сказать, сколько плах и дров заготовлено как для пароходов, так для стройки, топлива и собственных надобностей. Плоты тоже, известку в Долонской станице. Оказалось много для одного человека, и Жорж-Борман пожалел: "Тяжело, небось, управляться. Теперь спокойнее. Народу будете работать. Я вас брить бесплатно буду, также и стричь. Надо прическу придумать советскую". Поблагодарил Кирилл Михеич, а про народную работу сказал, что на люду и смерть красна. И в голову одна за другой полезли ненужные совсем пословицы. Дождь пошел. Кирпичи лежали у стройки ненужные и хилые. Все сплошь ненужно. А нужное - какое - оно и где? Кирпичи у ног, плахи. Конфискованная лошадь ржет, кормить-поить надо. Так и ходи изо-дня в день, - пока кормить народом не будут. Тучи над островерхими крышами - пахучие, жаркие, как вынутые из печи хлеба. Оседали крыши, испревали, и дождь их разма ак леденцы. Дни - как гнилые воды - не текут, не сохнут. Пустой, прошлых годов, шлялся по улицам ветер. Толкался песчаной мордой в простреленные заборы и, облизывая губы, укладывался на желтых ярах, у незапинающих и знающих свою дорогу струй.
И бежал и дымил небо двух'этажный американского типа пароход "Андрей Первозванный".
XIII.
Ночью с фонарем пришел в мастерскую Кирилл Михеич.
Старик, натягивая похожие на пузыри штаны, спросил:
- Куды?
Огонь от фонаря на лице - желток яичный. Голос - как скорлупа, давится.
Кирилл Михеич:
- Сапоги скинь. Прибрано сено?
- Сеновал?
В такую темь каждое слово - что обвал. Потому - не договаривают.
- Лопату давай.
- Половики сготовь.
Фонарь прикрыли половиком. Огонь у него остроносный.
- Не разбрасывай землю. На половики клади.
Половики с землей желтые, широкие, словно коровы. Песок жирнее масла.
В погребе запахи льдов. Плесень на досках. Навалили сена.
Таскали вдвоем сундуки. Ставили один на другой.
Точно клали сундуки на него, заплакал Поликарпыч. Слеза зеленая, как плесень.
- Поори еще.
- Жалко, поди.
- Плотнее клади, не войдет.
Тоненько запела у соседей Варвара - точно в сундуке поет. Старик даже каблуком стукнул:
- Воет. Тоскует.
- Поет.
- Поют не так. Я знаю, как поют. Иначе.
Песок тяжелый, как золото - в погреб. И глотает же яма! Будто уходят сундуки - глубже колодца. Остановился Поликарпыч, читал скороговоркой неразборчивыми прадедовскими словами. А Кирилл Михеич понимал:
Заговорная смерть, недотрожная темь
выходи из села, не давай счастье раба
Кирилла из закутья, из двора. В нашем
городе ходит Митрий святой, с ладоном.
со свящей, со горячим мечом да пра
щей. Мы тебя, грабителя, сожгем огнем,
кочергой загребем, помелом заметем
и попелом забьем - не ходи на наши пе
ски-заклянцы. Чур, наше добро, ситцы, бар
хаты, плисы, серебро, золото, медь семи
жильную, белосизые шубы, кресты, образа
за святые молитвы, чур!..
Заровнял Поликарпыч, притоптал. Трухой засыпал, сеном. А с сена сойти, - отнялись ноги. Ребячьим плачем выл. Фонарь у него в руке клевал острым клювом - мохнатая синяя птица.
- За какие таки грехи, сыночек, прятать-то?.. А?
Мыслей не находилось иных, только вопросы. Как вилами в сено, пусто вздевал к сыну руки. А Кирилл Михеич стоял у порога, торопил:
- Пойдем. Увидют.
И не шли. Сели оба, ждали, прижавшись плечо в плечо. Хотелось Кириллу Михеичу жалостных слов, а как попросить - губы привыкли говорить другое. Сказал:
- Сергевну услал, Олимпиада не то спит, не то молится.
Часы ударили - раз. В церкви здесь отбивают часы.
- О-ом... - колоколом окнули большим.
И сразу за ним:
- Ом! ом! ом! ом!.. м!м!м!
Как псы из аула, один за другим - черные мохнатые звуки ломали небо.
Дернул Поликарпыч за плечо:
- Набат!
И не успел пальцы снять, Кирилл Михеич - в ограде. Путаясь ногами в щебне, грудью ловил набат. Закричать что-то хотел - не мог. Прислонился к постройке, слушал.
По кварталу всему захлопали дверями. Лампы на крылечке выпрыгнули жмурятся от сухой и плотной сини. В коротенькой юбочке выпрыгнула Варвара, крикнула:
- Что там такое?
И, басом одевая ее, мать:
- Да, да, что случилось?
- На-абат!..
А он оседает медногривый ко всем углам. Трясет ставнями. Скрипит дверями:
- Ом!.. ом!.. ом!..
С другой церкви - еще обильнее медным ревом:
- Ам!.. м... м... м... ам!.. ам!..
И вдруг из-за джатаков, со степи тра-ахнуло, раскололо на куски небо и свистнуло по улицам:
- А та-та-та... ат... ета-ета-ета-ата!.. ат!..
Кто-то, словно раненый, стонал и путался в заборах. Медный гул забивал ему дорогу. В заборах же металась выскочившая из пригонов лошадь.
- Та. Та... а-а-ать!.. ат!..
Взвизгнуло по заборам, туша огни:
- Стреляют, владычица!..
Только два офицера остались на крыльце. Вдруг помолодевшими трезвыми голосами говорили:
- Большевикам со степи зачем?.. Идут цепями. Вот это слева, а тут... - Ну, да - не большевики.
И громко, точно в телефонную трубку, крикнул: