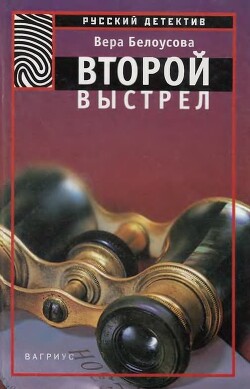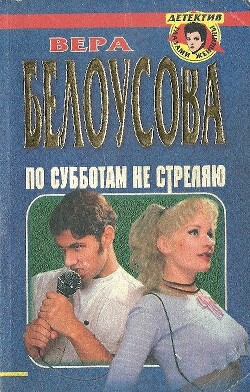Не знаю, как насчет Сонькиного рассудка, но у нее у самой, когда она это говорила, вид был вполне сумасшедший. Меня же поразило странное совпадение. Помните, я говорил про ассоциации? Про совпадения с русской литературой?.. Так вот, я имел в виду именно «Первую любовь». Ведь у них, у Ольги и у Зинаиды, модель поведения была, ей-богу, совершенно одинаковая! И салоны эти, вечерние посиделки — тоже ведь удивительное сходство, с поправкой на эпоху, конечно. Причем заметьте: когда это впервые пришло мне в голову, я еще знать не знал про Ольгу и отца. А когда узнал — подивился полноте совпадения. Выходит, мы с Сонькой думали об одном и том же… Ольгиных слов насчет «сокращенных» персонажей я сперва не принял всерьез. Она, между тем, продолжала, не сводя с меня лихорадочно блестевших глаз:
— Ты помнишь «Первую любовь»?
— Помню, — кивнул я.
— А я сначала не подумала, а потом вспомнила… Они ведь там оба умирают, помнишь? Оба — и отец этого мальчика, и Зинаида… Помнишь?
— Да помню я, помню. Хорошо помню. И что с того?
— А то, — торжественно проговорила она, причем в шоколадных глазах явно плескался ужас, — что теперь моя очередь. Разве непонятно? Ты думаешь, она это случайно сказала? Это она меня предупредила… вроде как. Одного она уже «подсократила». Теперь подсократит второго… вторую. Все, как в книжке. Все, как написано.
Кажется, невозможно было воспринять эти бредни всерьез… Теоретически я должен был, сохраняя здравость рассудка, привести ее в чувство и спокойно растолковать ей, что все это чепуха… Вместо этого я впал в оцепенение. Конечно, все это на меня подействовало — все вместе: и Тимошины новости, и Ольгины истории. Но это бы еще полбеды… Беда же состояла в том, что я вспомнил одну вещь, которую честно умудрялся до сих пор не помнить…
Я вспомнил давние-предавние детские Сонькины рассказы про револьвер… или нет… кажется, она говорила: «пистолет». Пистолет, который хранится у них дома… Пистолет, оставшийся от деда… Именной, что ли? Или не именной, а просто личное оружие, которое почему-то в свое время не было сдано и осталось в доме?.. Тогда, много лет назад, мы ей не поверили и потребовали принести и показать. «Не могу», — сказала она. Мы стали дразнить ее, не сомневаясь, что она соврала. «Дураки, — выпалила Сонька, кусая губы. — Я не могу, потому что мать с меня клятву взяла». (Тогда это было еще в Марфушиных силах.) Не помню, чем кончился этот разговор…
«Спокойно, — сказал я себе. — Пистолет мог взять кто-то другой», — и тут же спросил себя: кто? Марфуша? Я представил себе Марфушу с пистолетом, и по лицу невольно поползла идиотская и совершенно неуместная улыбка. Разумеется, это мог быть совсем другой пистолет, и если бы нс эта история про «Первую любовь»… Но ведь она действительно произнесла эту фразу… Ольгин испуг был слишком натурален, чтобы заподозрить ее во вранье.
Однако нельзя же было бесконечно сидеть, молчать и пялиться друг на друга, как в ступоре. Я сделал над собой усилие и сказал:
— Это, конечно, ерунда — все, что ты говоришь, Оля. Но чтоб тебе было спокойнее, я обещаю: сегодня или завтра я найду ее, поговорю и разберусь с этим делом.
Трудно сказать, что я имел в виду, делая такое заявление. Как я себе это представлял? Ну найду я ее, допустим… И что я ей скажу? Ольга, во всяком случае, немного успокоилась — и ладно. Я клятвенно пообещал позвонить, как только что-нибудь узнаю, и вообще — позвонить в любом случае, и заторопился уходить. Мне необходимо было найти Соньку прямо сегодня. И вовсе не ради Ольги. Просто я сам не мог ждать.
Выйдя за калитку, я оглянулся на нашу дачу. Марфуша должна была быть там. Казалось бы, проще всего было зайти к ней и спросить, где Сонька… Ан нет, не проще. Поколебавшись секунду-другую, я этот вариант отбросил. Во-первых, совсем не факт, что Марфуша располагала нужной информацией — Сонька отнюдь не склонна была ни с кем делиться, а Марфушу держала в черном теле. А во-вторых… Во-вторых, после того, что я узнал от Тимоши, у меня просто не хватало духу пойти разговаривать с ней про Соньку. В общем, я решил действовать своими силами. Для начала я позвонил Соньке домой — прямо с вокзала, как только приехал в город. К телефону никто не подошел. Я подумал-подумал и решил к ней поехать. Она могла не брать трубку, могла отключить телефон. В крайнем случае, я мог оставить ей записку — бросить в почтовый ящик или сунуть под дверь.
Я вышел на привокзальную площадь и остановился, пытаясь сделать выбор между метро и трамваем. Стоило мне склониться в пользу метро, как из-за угла показался нужный трамвай, и дело, таким образом, решилось без моего участия.
Трамвай тащился еле-еле, зато был почему-то совсем пустой. Я смотрел в окно и думал. Хотя «думал» — это опять-таки не совсем точно. Не «я думал», а «мне думалось» — вот это было бы точнее, хотя, кажется, так не говорят. То есть говорят, но в каких-то других случаях. В общем, было примерно так: то, что я видел за окном, смешивалось с мыслями, которые появлялись ни с того ни с сего и как-то совершенно помимо моей воли. За окном, кстати, тоже все было как-то расплывчато. Во-первых, наступали сумерки — самое неопределенное время суток, во-вторых, в голове был туман, ну и в-третьих, стекла в трамвае были ужасно пыльные. Это может показаться странным, но я совсем не думал о том, что только что узнал от Тимоши и от Ольги. Я даже про пистолет забыл. А думал я вот о чем: как могло получиться, что я совсем потерял Соньку из виду. Дело было не только в этих последних несчастных месяцах, когда я потерял ее из виду в буквальном смысле слова. Это случилось раньше, год назад или, может быть, даже два — мы как-то перестали интересоваться жизнью друг друга. По сути дела, я был к ней по-прежнему очень привязан, только мне все время было не до нее. Последний класс, экзамены, потом первый курс, новая жизнь, новые знакомства — не говоря уже о событиях последнего лета… А Сонька была данность, всегда тут как тут, ничего нового, сплошная привычка. И вот результат: я понятия не имел, чем она жила эти последние годы и как — черт возьми! — как могло все это случиться.
Дома ее не оказалось. Я кое-как нацарапал две записки и сунул одну под дверь, другую — в почтовый ящик, на всякий случай. Обе состояли из одной фразы, не считая подписи: «Сонька, очень прошу, позвони мне срочно».
Вечером звонка не было. На другой день все повторилось: я снова поехал к ней, никого не застал и зачем-то снова оставил две отчаянные записки. (Этот «другой» день нужно расписать подробно — если не по часам, чего я сделать уже не смогу, то, по крайней мере, по порядку, ничего не пропуская.)
Итак, утром я снова съездил к Соньке — и снова безо всякого толку. На обратном пути до меня вдруг дошло, что она собиралась куда-то уехать — во всяком случае так она сказала моей матери в день похорон. На сколько она уехала — я не знал. Вполне могла еще не вернуться, если, конечно, все это вообще не было отговоркой. И тут мной овладела какая-то лихорадка. Я был совершенно не в состоянии сидеть на месте и ждать, тем более не зная, сколько это ожидание продлится. Что-то нужно было предпринять. Почему-то я решил поехать к Тимоше. Не уверен, что сумею объяснить, зачем мне это понадобилось. Это была какая-то сомнамбулическая логика — неизвестно откуда взявшаяся уверенность, что Тимоша должен что-то знать. Однако на этот раз Тимоша, вопреки обыкновению, был отнюдь не расположен со мной беседовать. Он сидел на террасе с бутылкой пива, явно злой как черт, и щурил глаза, как будто ему больно смотреть на весь свет. На мое приветствие он не ответил. Я все-таки вошел и даже сел рядом с ним на табуретку.
— Чего тебе? — процедил он сквозь зубы.
Тут я как будто на секунду очнулся от спячки — и растерялся. В самом деле: с какой стати я решил, что он что-то знает? Лучше было повернуться и уйти, не задавая никаких вопросов, но я все-таки спросил, не знает ли он, где может быть Сонька. Он оскалился совершенно по-волчьи, а может, впрочем, и по-собачьи, и отрезал: