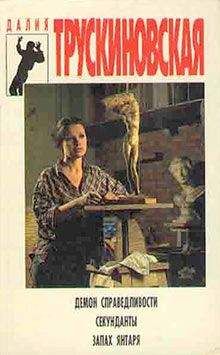Ознакомительная версия.
Валька отвлекся. Верочка почувствовала это и стала искать кассету.
– Поставь Михайловского, – попросил Валька.
– Хорошо. Он тебе нравится?
– Еще бы.
– Жаль, что ты не слышал, как он по-настоящему поет. Кассета – это так…
Верочка задумалась.
– Знаешь, я ведь и влюбилась в него, когда он играл на гитаре и пел, – призналась она. – Мы встретились в одной компании. Там все ребята были такие высокие, спортивные, и Чесс – как кузнечик, нет, действительно, у него локти торчали, как у кузнечика. Все такие крупные, с плечищами, – и Чесс. Ну, поддали ребята, закурили, я на него даже не смотрела, и тут он сел в середине комнаты и ему дали гитару. Когда он запел, я стояла к нему спиной, и мне вдруг стало очень неприятно, даже неловко за него – как он может петь перед людьми таким голосом?..
Верочка помолчала.
– Если тебе неинтересно, скажи, – попросила она. – Может быть, это на самом деле интересно только мне одной.
– Мне тоже, – сказал Валька. – Я вот песни его слушаю, а какой он – даже не представляю.
– Его нетрудно представить хотя бы потому, что у него высокий голос. Если бы такой голос был у здорового дяди, это было бы просто смешно… а Чесс никогда не был смешным. В нем была гармония. Понимаешь? И такой голос, и эти локти в стороны, и это лицо, тонкое и открытое одновременно… не понимаешь?
Валька чуть улыбнулся ей – мол, продолжай.
– Он так пел, что хотелось встать перед ним на колени, встать и смотреть снизу вверх. Когда я поняла это, мне стало страшно. И я уже не могла сдерживать себя. Он так пел, что все подобрались к нему поближе и смотрели на него одинаковыми глазами, сумасшедшими и покорными… понимаешь?
– Ага…
– Я больше не могла, я подошла сзади… на табуретке за его спиной был краешек… вот я и села, и слушала, как он поет, прижавшись к его спине, прямо ухом – к спине… и ничего не понимала, только чувствовала эту спину, и каждое движение рук, но мне даже не пришло в голову, что я могу его обнять.
– А он? – спросил Валька.
– А он пел. Конечно, он почувствовал, что сзади кто-то сидит, но я ему не мешала, и он пел дальше. А потом уже, когда он начинал петь, я даже выходила в другую комнату или коридор, я просто боялась потерять сознание. Я не думала, что можно так полюбить человека.
– А он тебя? Это ведь было бы страшно несправедливо, если бы он ничего не понял, – со вздохом сказал Валька.
– Он понял… Это было осенью, – Верочка тоже вздохнула. – Я сама пришла к нему. Я весь день чувствовала, что ему плохо и он зовет на помощь. А у нас был вечером коллоквиум перед зачетом, и я была тогда такая дура, что осталась на этот коллоквиум, представляешь? Но я чувствовала, что должна бежать к нему… С тобой бывало такое – чувствуешь, что сейчас должно случиться?
– Бывало, – ответил Валька, потому что в последние недели с ним в основном это и бывало.
– Чесс сказал, что он как раз думал обо мне. И я поняла, что никогда не уйду оттуда, что там теперь мой дом. Я была готова, чтобы уже никогда не вернуться сюда, к своим, понимаешь? Конечно, сейчас это звучит глупо… Мы провели вместе остаток вечера, а потом встали у окна. Чесс жил на шестом этаже в старом доме. Это было французское окно, знаешь, от самого пола, оно открывалось в комнату и там еще был маленький парапет, вроде балкона. Мне сразу стало холодно, я прижалась к нему, он обнял меня и стал рассказывать про звезды, про Кастора и Поллукса, это звезды-близнецы. Он очень интересно рассказывал, но я ничего не понимала, так мне было холодно и так я чувствовала его руку… Потом мы вернулись в комнату и я села на кровать с ногами. У него была такая смешная, скрипучая, проваленная кровать…
Она улыбнулась, улыбнулся и Валька.
– Он сел рядом. Я стала целовать его руки. Я лежала головой на его коленях, целовала руки и чувствовала, что схожу с ума. Мне казалось, что я так и умру сейчас с этими руками у губ. А он молчал и позволял мне делать все, что я хотела. Потом он так же молча лег рядом со мной. Теперь я понимаю, что просто сама не оставила ему другого выхода – был третий час ночи, не выгонять же меня! А больше лечь ему было некуда.
И дальше Верочка заговорила, глядя прямо в глаза Вальке, с болью и отчаянием.
– Я слишком любила в тот вечер, чтобы еще и думать! Я приподнялась на локте и увидела, что он закрыл глаза и закинул голову, но он не спал. Наверно, он воображал, что рядом с ним не я, а совсем другая женщина, и что это она его целует. Я знала, кто эта женщина, просто мне тогда было не до правды. Я так любила, что мне было не до правды! И мне было все равно, молчит он или говорит, смотрит на меня или не смотрит. Я слишком любила его, я непростительно слишком любила…
Она помолчала – возможно, ждала, чтобы Валька что-то ответил.
Но он был занят – пытался вспомнить, как у них было с Татьяной пять лет назад. И обнаружил, что вспомнить толком не может, что ту первую ночь, когда все было нелепо и впопыхах, заслонили другие ночи, с их уверенностью и раскованностью. А главное – Татьяна никогда не целовала ему рук, и он даже не мог бы этого представить.
Когда он усилием воли отвлекся от этих воспоминаний, Верочка наливала себе остывший чай. Вся она сникла. Как будто выговорилась – и ни слов, ни дыхания не осталось.
Она попыталась втиснуть заварочник между тарелками. Валька забрал его и поместил на подоконник, к кактусам.
– Ему не за что было любить меня, – глядя в чашку, сказала Верочка. – Ну, кто я такая? Студенточка, дурочка, бегала за ним по улицам и караулила возле мастерской Изабо – нет, правда, провожала его туда и ждала, пока он там сидел с Изабо, чтобы потом проводить к трамваю и ехать в другом конце вагона, да, все это я проделывала, и Изабо видела меня в окно… Он, скорее всего, просто терпел меня. Ведь вокруг него всегда было много девчонок, вечно он поил кого-то кофе и таскал кому-то цветы, даже когда начал ездить к Изабо…
Верочка задумалась. Валька осторожно протиснулся мимо нее и вышел на кухню – зажечь газ под чайником.
– Спички на подоконнике, – сказала ему вслед Верочка.
Вернувшись, он встретил ее вопрошающий взгляд и кивнул. Это означало что-то вроде «рассказывай, я слушаю».
– Наверно, был уже четвертый час, когда он заговорил, – продолжала Верочка. – Уже после всего. Он ни слова не сказал, но это была такая нежность, слов и не нужно было вообще, они бы только все испортили… Он встал и, как был, вышел на балкончик. Я закуталась в одеяло и ждала его, даже позвать боялась. Он вернулся, сел, и я втащила его под одеяло. Он замерз на ветру, я прижалась к нему, чтобы отогреть. И тогда он сказал: «Наверно, я когда-нибудь сделаю этот третий шаг». Окно открывалось в комнату, чтобы встать у парапета, нужно было сделать как раз два шага. Он сказал про них, когда мы еще смотрели на звезды. «Третий шаг», – сказал Чесс. Я посмотрела ему в лицо и не поняла, шутит он так или нет. Тогда с него уже сошел крымский загар и он больше не был похож на сиамского кота. Но его волосы показались мне седыми. Такие они в темноте были светлые. Я попросила его, чтобы он больше так не говорил. Он спросил – а думать можно? Я поняла, что каждый раз у окна эта глупость приходит ему в голову. Я спросила, не случилась ли с ним неприятность. Он ответил, что он сам – одна большая неприятность. И среди людей без неприятностей ему, похоже, не место. Потом оказалось, что все это были мелочи, главные проблемы его ждали зимой. Он встал, оделся и сел за стол – писать. Он писал при свече и проработал так три часа, не обращая на меня внимания. Может быть, он думал, что я уснула. Но я не могла уснуть. Потом я услышала первый троллейбус и стала одеваться. Он не обернулся. Я совсем оделась, он встал, провел меня по коридору и выпустил. Ни слова о том, что мы еще когда-нибудь встретимся, он не сказал. И я побежала на остановку.
– И он не проводил? – недоуменно спросил Валька.
– Он остался работать. А я вдруг забеспокоилась насчет тетради с конспектами, я как раз успевала заехать за ней домой и – на лекции, на первую пару. Глупо, да?
– Вы после этого встречались? – пытаясь хоть что-то понять, спросил Валька.
– Несколько раз. У меня, потом у него.
– И что, тоже молчали?
– Да, молчали… Чессу было тогда очень плохо, и он знал, что будет еще хуже. Ведь он был Первый, понимаешь? Всякие там сорок седьмые публиковались, и ничего, а у него рогатка за рогаткой. Он был лишним. Они с Лешкой писали правду, только Лешка уже тогда за границу собирался, а Чесс – нет. Помнишь его песни? Вся его надежда была на эти кассеты. Из первого сборника половину стихов выкинули. Повесть он даже в издательство не понес – так прямо, неоконченную, пустил по рукам. Он понял, что его проза и стихи иначе не дойдут до людей, а больше он ничего делать не умел и не хотел. И если бы случилось еще что-то скверное… ну, вот оно, наверно, и случилось…
– А Второй? Они же были вместе в тот вечер!
– Я сама тогда видеть не могла Второго. Как он не понял, что Чесса нельзя оставлять одного! Ведь он вышел в коридор – и тогда Чесс сделал этот самый третий шаг! Наверно, Изабо и Толик напрасно его во всем обвиняют. Он не удержал Чесса – вот и вся его вина. Но они меня не слушают. Они все это понимают как-то иначе. А если бы они слышали, как он сказал про этот третий шаг… может, они бы поняли?
Ознакомительная версия.