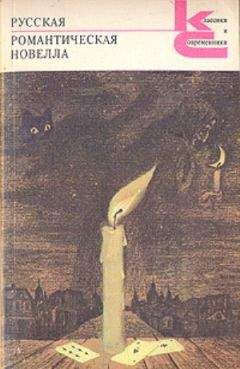И девушка тут же повела меня к небольшой, довольно далеко отстоящей от входа в магазин двери в квартиру хозяев. Едва переступив порог, мы попали в сумрачный холл, так что пришлось дать глазам привыкнуть к темноте, иначе надо было бы идти вслепую, вытянув перед собой руки. Мария стояла совсем рядом, так что я ощущал тепло ее тела, и, да простит меня Бог, попытался поцеловать ее в губы, как я это сделал бы в Вашингтоне, но девушка тут же увернулась.
- Не сейчас, Хосе... сейчас еще грешно...
Не знаю, право же, грешно или нет целовать любимую девушку, но то, что в Америке мне показалось бы кокетством, здесь я хорошо понимал и, как истинный андалусец, в глубине души не мог не одобрить. Мария взяла меня за руку и повела к каменной лестнице в самом конце коридора. Не успели мы подняться и на несколько ступенек, как я услышал звуки разговора. По словам моей невесты, глубокое раскатистое контральто принадлежало донье Хосефе, супруге Альфонсо Перселя, зато последнего Небо наградило писклявым, пронзительным фальцетом. Третий собеседник говорил по-испански с сильным акцентом, и, еще не добравшись до лестничной площадки, я успел заметить несколько грубых ошибок в грамматике.
Персели приняли меня весьма сердечно и представили своего гостя Карла Оберхнера, представителя текстильной фирмы из Гамбурга. Дон Альфонсо счел нужным подчеркнуть, что особенно счастлив принимать у себя в доме и француза и немца одновременно, по мере своих слабых сил способствуя таким образом примирению этих двух народов, чье взаимное согласие, по мнению дона Альфонсо, необходимо для спасения всего западного мира. Оберхнер крепко пожал мне руку. Этот высокий мужчина лет сорока, со светлой бородкой, напомнил мне героев Вагнера. Он любезно улыбался, но меня несколько смущали его холодные голубые глаза, тем более что я довольно часто ловил на себе их взгляд. С Марией он держался по-немецки любезно (это странное сочетание неотесанности и сентиментальности особенно шокирует, поскольку, благодаря первой вторая еще больше бросается в глаза). Может, потому что Мария не обращала на Оберхнера никакого внимания, а может, поскольку его присутствие ограждало меня от дружеской нескромности Перселей, но, так или иначе, сперва немец показался мне симпатичным малым.
Донья Хосефа заботливо посадила меня рядом с Марией, как только мы проглотили поданный в виде аперитива херес и перешли к столу, а потому настроение у меня мигом улучшилось. Мне, конечно, то и дело задавали вопросы насчет парижской жизни и работы, но я, сославшись на то, что приехал сюда отдыхать, старался не очень распространяться о своем положении в фирме Бижара. Зато Карл Оберхнер с удовольствием болтал о работе. На мой вкус, несколько тяжеловато он воспевал достоинства тканей фирмы "Элмер и сын" и удивительную красоту древнего ганзейского города. Я неплохо знал Гамбург, прожив там пять недель вместе с парижским хозяином моего отца, поэтому невольно вздрогнул, когда Оберхнер заявил, будто "Ангел милосердия" знаменитая харчевня, построенная больше ста лет назад, где подают лучший в городе "rundstuk warm"*, - стоит на Репербан, хотя любому туристу, проведшему в городе не больше суток, известно, что она находится на Хайн Хойерштрассе. Так каким же образом Карл, если он и в самом деле приехал из Гамбурга, мог допустить такую грубую ошибку? Меня чисто профессионально раздражало то, что я никак не мог подобрать на этот вопрос удовлетворительного ответа.
______________
* Двойные ломтики хлеба с жареной свининой. - Примеч. авт.
- Вам нравится Париж?
Невесте пришлось тихонько подтолкнуть меня локтем, и только тогда я сообразил, что вопрос обращен ко мне. А Мария, с обычной проницательностью почувствовав, что я отвлекся, ответила сама:
- Судя по тому, что Хосе нам рассказывал, вероятно, он любит Париж больше всего на свете. Правда, Хосе?
- После Севильи! - отозвался я, снова входя в роль.
Послышались радостные восклицания. Донья Хосефа, ни разу не выезжавшая за пределы Андалусии, спросила, правда ли, что Париж больше Мадрида, и можно ли, не впадая в ересь, сравнить его бульвары с калле де Алькала? Неутомимый Карл Оберхнер тоже заговорил о Париже и назвал несколько маленьких ресторанчиков, известных лишь гурманам, но опять не раз ошибался, указывая их расположение. Я тут же поправил немца, и он благодушно признал мою правоту. И что за игру он затеял? Оберхнер, вне всяких сомнений, прекрасно знал французскую столицу, так зачем ему понадобилось называть не те улицы? Случайно это или нарочно? И если нарочно, то с какой целью? Может, решил, что я такой же враль, и захотел проверить?
Худо-бедно, мы все же добрались до десерта, и донья Хосефа подала брасо де гитано*, а ее муж откупорил бутылку мускателя. Хозяйка дома призналась, что не только обожает готовить, но и всегда воздает должное собственной стряпне, и тут сразу стало ясно, почему добрейшая матрона весит больше двух сотен фунтов, тогда как ее мужу рост и вес вполне позволили бы работать жокеем. Персели являли собой одну из тех внешне неподходящих пар, что так забавляют карикатуристов, однако, судя по бесконечным знакам внимания друг другу, отлично ладили. Было бы очень странно, сумей Карл Оберхнер придержать язык, хотя бы когда речь зашла о кулинарии. Воспев достоинства испанской кухни, он тут же признался, что, по его мнению, ничто не сравнится с кальблебервюрст** с лапшой и пивом. Честное слово, господин Оберхнер начинал здорово давить мне на психику, и я чувствовал, что очень скоро дам ему это понять.
______________
* Праздничный торт в форме полена. - Примеч. авт.
** Колбаса с телячьей печенью. - Примеч. авт.
К счастью, донья Хосефа, встав из-за стола, предотвратила взрыв. Мы перешли в маленькую комнату, на стене которой за резной решеточкой улыбалась покровительница Севильи Мария Сантисима де ла Эсперанса, иначе говоря, Макарена. Мне предложили бокал анисовой настойки, и я горько пожалел об отсутствии шотландского виски. Величественная в своем черном платье, хозяйка дома (если она надеялась, что цвет сделает ее фигуру стройнее, то совершенно напрасно) отвела нас с Марией в сторонку, а Карл Оберхнер вместе с Альфонсо уединился в углу у окна - очевидно, им хотелось поговорить о делах. Я заметил, что дневной свет придает странный сине-зеленый оттенок поразительному костюму сеньора Перселя - в клеточку, окаймленную красным, на ядовито-зеленом фоне. Признаюсь, это буйство красок убило меня, если можно так выразиться, с первой минуты.
- Дон Хосе, Мария говорила мне о ваших планах... Я ее очень люблю и потому от души рада... Здесь она в какой-то мере заменяла дочь, которую Господь не пожелал нам дать... И, не будь вы таким милым молодым человеком, я бы, кажется, вас возненавидела!
- Меня бы это глубоко опечалило!
Донья Хосефа улыбнулась.
- Вы истинный кабальеро, дон Хосе, и прекрасно умеете обманывать... А вы знаете, что лишаете нас настоящей жемчужины?.. Да уж что поделаешь, такова жизнь... Рано или поздно нам приходится расставаться со всеми, кого любим... Видите ли, дон Хосе, в моем возрасте начинаешь понимать, что лучше ни к кому не привязываться, если не хочешь однажды почувствовать себя очень несчастной...
Слова хозяйки растрогали Марию до слез. В порыве благодарности она схватила руку сеньоры Персель и быстро поднесла к губам. Не могу сказать, что мне это очень понравилось.
- И вы... разумеется, снова уедете в Париж, взяв с собой нашу Марию, дон Хосе?
- Если она согласится последовать за мной...
Донья Хосефа засмеялась.
- Только не пытайтесь уверить меня, будто вы в этом сомневаетесь!
Когда мы попрощались с Перселями и Марией (им пора было снова открывать магазин), Карл Оберхнер довольно настойчиво предложил проводить меня. Поэтому мы вместе поднялись до площади Сан-Фернандо, и лишь на пороге гостиницы тевтон наконец решился оставить меня в покое. Оберхнер протянул руку, и мне не оставалось ничего другого как пожать ее, но, надо думать, по выражению лица Оберхнер понял, как мало удовольствия мне это доставило.
- Вы не испытываете ко мне особой симпатии, верно, сеньор Моралес?
- Только не подумайте, будто... - немного смущенно пробормотал я.
Но Карл с живостью перебил, отметая вялые возражения:
- Да-да... Впрочем, для нас, немцев, это обычное дело... мы не умеем нравиться с первого взгляда, а потому слишком стараемся выставить напоказ все свои достоинства... Ну и, конечно, добираемся прямо противоположного результата... Только не воображайте, будто мы этого не замечаем... замечаем, естественно, но, увы, поздновато...
Ну вот, все же он растрогал меня, подлец, добился-таки своего!
- Нет, возможно, это мы, потомки древних римлян, не в меру чувствительны, и... - не желая оставаться в долгу, начал я, но немец опять перебил меня:
- Это очень любезно с вашей стороны, сеньор Моралес, но не особенно убедительно. Однако уж такие мы есть - все наши добрые намерения кончаются драмой. Своего рода проклятие, к которому мы никак не можем привыкнуть. Hasta la vista, senor Morales*.