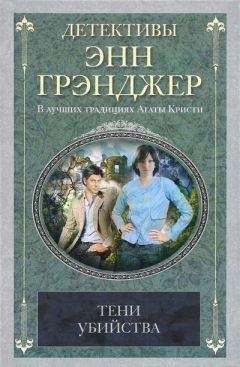Ознакомительная версия.
Маленький защитник взметнулся:
— Протестую, милорд! Домыслы свидетельницы абсолютно недопустимы!
Свидетельница не стала ждать, когда судья отклонит протест.
— Ну, одно я точно знаю. Все это было там, когда пришел мистер Оукли, а когда ушел, не стало. А я ничего не брала!
И теперь по дороге домой Вуд вспоминал свой второй визит в Форуэйз вместе с сержантом Паттерсоном, чтобы арестовать Оукли. В памяти запечатлелось выражение его лица, когда он осознал, что происходит. Недоверие, злость и… презрительная насмешка. Да, насмешка. Возможно, больше всего тревожит насмешка в темных глазах.
В начале года рано темнеет. Фонарщик совершает обход, оставляя за собой шлейф ярких огней в газовых фонарях. В воздухе стоит густой сернистый привкус дыма, теплый запах конского навоза с вязким оттенком вечернего тумана. Впрочем, на улицах еще полно народу. Бакалейные и мясные лавки открыты, заманивая запоздавших покупателей, возвращающихся из контор клерков, непредусмотрительных домохозяек.
Мальчишки-разносчики бегают с вечерними газетами. «Бамфорд газетт» посвятила процессу специальный выпуск. Вуд купил ее, быстро пробежал судебный отчет, сунул в карман, чтобы внимательно просмотреть на досуге. Репортажи пишет тот самый Хакстейбл. Вечно торчит у него на дороге, выскакивает перед носом, прося комментариев обо всем на свете. Завтра историю разнесет национальная пресса, тогда придется иметь дело не только с Хакстейблом.
Вуд вставил ключ в замочную скважину в двери своего скромного дома в самом конце Стейшн-Роуд, стараясь, как обычно, повернуть тихонько. Но Эмили услышала. Не успел он войти, как она выскочила с кухни, где хлопотливо собирала ужин, бросилась снимать с него пальто, охая из-за промокшей шляпы.
— Так и знала, что ты будешь поздно, — пресекла она его извинения.
— Ужин остыл? — спросил он, принюхиваясь к заманчивым запахам с кухни.
— Нет. Я приготовила мясной пирог, чтобы можно было разогреть. — Дочь повесила его пальто в холле, чтобы в тепле просохло.
— Мясной пирог, — повторил Вуд, разматывая шарф. — Мой любимый.
Оба улыбнулись. Он неизменно объявляет любимым все, что она приготовит. Это их интимная шутка. Ей двадцать три, она заботится о нем уже шесть лет после смерти жены. Имеет полное право жить в собственном доме, ухаживать за мужем и детьми, вместо того чтобы сидеть здесь с отцом. Впрочем, ее удерживает не только дочерний долг, о чем напоминает улыбка.
Гладкая половина лица улыбается, сморщенная гримасничает. Она была самым прелестным ребенком до страшного дня, когда на ней вспыхнуло платье. На теле есть другие шрамы, но их никто не видит.
Шрамы на лице не скроешь. Поэтому Эмили прячется. Всю жизнь прячется в этом доме. Вуд тщетно уверяет ее, что где-нибудь за дверью обязательно найдется тот, кто разглядит под рубцами любящее безупречное сердце. Но она боится рисковать. Сидит дома, раз в неделю ходит за покупками, по утрам в воскресенье в местную веслианскую[9] церковь, надевая в обоих случаях черную вдовью вуаль. Поэтому стала в округе предметом любопытства, догадок и преувеличенных слухов о ее обезображенной внешности.
По настоянию Вуда они всегда едят на кухне. Он не желает устраивать беспорядок в крошечной столовой, обременяя дочь последующей уборкой. Ему ничего не позволено делать. Хотя он, в отличие от многих мужчин, с удовольствием потрудился бы в доме, дочь стоит на своем как скала. Здесь ее царство, ее жизнь. Его мир за стенами. Здесь он в ее мире.
Когда уселись за стол, Эмили, положив ему порцию пирога, нетерпеливо спросила:
— Ну, что было сегодня, отец?
Знает о деле Оукли, потому что он привык обсуждать события с дочерью. Как правило, опускает жестокие и неприятные подробности. На сей раз это непросто.
— Все хорошо, насколько можно ожидать, — ответил он. — Та самая Баттон давала показания довольно уверенно, а это больше не моя забота, дорогая! — И сразу же сам себя опроверг: — Я наблюдал за Оукли. Сидит с таким высокомерием и превосходством… Собирается нас одурачить. Нутром чую.
— На тебя не похоже, — поддразнила отца Эмили.
— Правда. Мне отлично известно, что дело в руках судейских. Но полицейский, моя дорогая, нередко встречается с негодяем, которого особенно хочется прижать к ногтю. Мне нужен Уильям Оукли. Я искренне боролся с этим побуждением, даже твои проповедники были бы довольны. Только истина в том, что я его считаю хитрым, умным, расчетливым, хладнокровным убийцей. Конечно, мне хочется услышать вердикт «виновен». Честно признаюсь. Вот так! — Опасаясь, что слишком разгорячился, Вуд умолк и виновато улыбнулся. — Слушай, я сам себя пугаю. Не обращай внимания.
Эмили перестала жевать, гоняя вилкой по тарелке корку пирога, не сводя с нее глаз.
— Это из-за меня, правда? — Дотронулась до обезображенной щеки. — Тебе нужен мистер Оукли из-за того, что его жена сгорела? — Честные голубые глаза взглянули на Вуда.
Он мгновение ошеломленно молчал. Неужели правда? Теперь, когда слово сказано, правда стала очевидной, а он о причине даже не догадывался. Неужели дочь знает его лучше, чем он сам?
Потом все-таки выдавил:
— Нет, Эмми, это не личное дело. Ничего подобного. Просто чувствую здесь, — он стукнул себя в грудь, — и здесь, — постучал пальцем по лбу. — А в суде все сводится к тому, поверят ли присяжные показаниям экономки. В любом случае от меня больше ничего не зависит.
Стэнли Хакстейбл живет в меблированных комнатах. Хозяйка — принципиальная сторонница трезвости — обладает непревзойденной способностью унюхивать в доме даже жалкую бутылку портера. Не допускает ни карточных игр, ни музыки (кроме совместного исполнения гимнов), ни посетителей. Поэтому Стэнли привык проводить вечера в публичных заведениях Бамфорда. Не напиваться, конечно, чтобы не рисковать потерей не только жилья, но и места в газете. Просто, объясняет он всем, кому интересно, чтобы увидеть веселые лица и мило поболтать.
Сегодня уселся в углу в «Джордже» с пинтой портера, пирогом со свининой, яйцами в маринаде. Ни один известный ему журналист нормально не питается. Не имеет либо времени, либо возможности.
Только принялся за пирог со свининой, как услышал голос:
— Разрешите?
Представитель агентства Рейтер, не дожидаясь ответа, уселся за стол со своим пирогом, виски и водой.
Они ели в компанейском молчании, пока мужчина не заметил:
— Эта самая Баттон хорошо поработала на королевского прокурора. Если будет стоять на своем, отправит субъекта на виселицу.
— Посмотрим, как защита проведет перекрестный допрос, — сказал Стэнли. — Завтра ставлю вам пинту, если обвинение не расползется по швам.
— Принято, — кивнул представитель агентства Рейтер.
Стэнли вытер губы тыльной стороной руки.
— Я думал, вы в Оксфорде остановились.
Мужчина фыркнул и тряхнул головой:
— Там его никто не знает, правда? Поэтому слушания ведутся в Оксфорде. Чтобы не мешали никакие сплетни о его частной жизни, ясно? А здесь, в Бамфорде, он весь как на ладони. Может, и вам известны какие-то байки?
— Да нет. — Что не совсем правда, но, если представителю международного агентства нужна информация, пускай сам поработает ножками, как остальные.
— Неужели? — усомнился мужчина.
Стэнли готов признать: Уильям Оукли истинный джентльмен. Хотя, оговорился он, известно, что жен убивают даже истинные джентльмены.
И журналисты, как светские люди, много на своем веку повидавшие, понимающе кивнули друг другу.
— Разумеется, утром, то есть вчера, я сразу же поехала.
Джулиет Пейнтер и Мередит Митчелл неудобно примостились за угловым столиком в оживленном баре. Ни та ни другая в иных обстоятельствах не выбрали бы такое место встречи, но у обеих времени мало, а бар удобно расположен. Мередит взяла кофе и порцию жареной картошки, а Джулиет — кофе и пончик.
Джулиет наклонилась через стол, чтобы не поднимать голос в окружающем шуме.
— Все равно собиралась после твоего звонка с сообщением о появлении так называемого Яна Оукли, будь он неладен. А на другой день пришлось в Йоркшир тащиться. Меня там уже ждали. Поэтому я отложила визит в Форуэйз. К несчастью, негодный паршивец успел привести свой план в действие. Если б раньше приехала, разгадала бы замысел и выгнала его взашей.
— Он тебе не понравился, — улыбнулась Мередит на сердитые речи, потом качнула головой и нахмурилась. — А я даже не могу разобраться. С одной стороны, мне он тоже не нравится. С другой — было что-то очень трогательное в его волнении при виде дома.
— Не верь, — хмыкнула Джулиет. — Театральное представление.
— Ян член семьи, — напомнила Мередит. — Если нет, то досконально изучил фамильную историю. Как это сделать в Польше без устных рассказов, передающихся из поколения в поколение? Кажется, он действительно верит в невиновность прадеда. Если Форуэйз служит некой семейной легендой, о нем говорили, описывали… пожалуй, разволнуешься, видя реальный каменный облик. Мне показалось, что он совершает нечто вроде паломничества.
Ознакомительная версия.