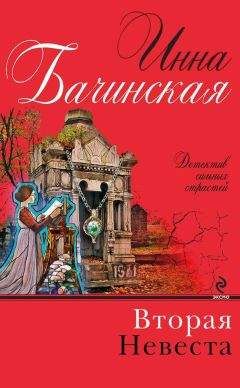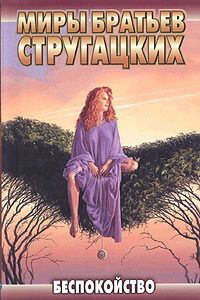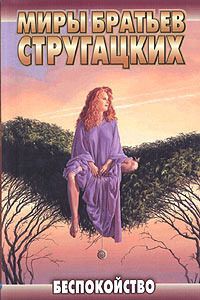Ознакомительная версия.
Странное, однако, заявление… Он кивнул, раздумывая над ее словами. Довериться? В чем?
Официант принес заказ — бокал с водой для Майи, коньяк, лимон и орешки для Федора. Это избавило его от необходимости отвечать.
В зале меж тем приглушили свет. Два мощных софита с боков освещали сцену. Бойкий конферансье выбежал на ее середину, поднял руки, призывая к тишине, и объявил:
— Стелла!
Взрыв аплодисментов, крики! И… пустая сцена. Прошла минута, другая. Сцена по-прежнему оставалась пустой. Публика стала вскакивать с места и скандировать: «Стелла! Стелла!!» Софиты погасли. Остался лишь источник рассеянного света где-то наверху…
Ожидание зрителей достигло накала, в зале стоял рев. На сцену неверными шагами, спотыкаясь и останавливаясь после каждого шага, вышла высокая женщина в длинном черном платье.
Федор пристально вглядывался в ее лицо. Она остановилась в центре подиума, застыла неподвижно, с закрытыми глазами, вдруг понял Федор. Веки ее были серебряно-синими, лицо бледным, полоска длинного рта темно-красной. И бледное лицо, и длинные черные волосы, и платье были усыпаны мелкими блестками, звездной пудрой, тускло переливающейся в неярком свете.
Зал стих. Стелла открыла глаза, сделала шаг вперед, протянула руки и запела. У Федора мороз продрал по коже. У Стеллы был сильный голос необычного тембра. Песню Федор знал — «Адажио» Альбинони. Впервые он услышал ее в Барселоне, прямо в парке на концерте какой-то дешевой группы. Заезженное, «запетое», набившее оскомину…
Стелла пела без сопровождения на английском языке. В голосе ее, изумительно красивом и редком, была такая вселенская тоска, такая невыплеснутая сладкая и горькая боль потерянной любви, что Федор невольно сглотнул. Голос взлетал, падал до шепота, звучали в нем стон, слезы, мольба и надежда…
I don’t know where to find you,
I don’t know how to reach…
Within my head and my soul
I wait for you Adagio… Ada-a-ag-i-i-o-o…
Неподвижность статуи, скупые движения рук и в то же время поразительная легкость исполнения, легкость механизма, а не человека. И голос, не женский и не мужской. Федор читал где-то, что голос профессионала — две октавы, голос, который он слышал сейчас, свободно скользящий от низких тенорных звуков до высокого нежного сопрано, чуть дрожащего, был фантастичен!
Я больше не заплачу,
Все выплакала слезы…
Не умирай, не умирай
Никогда! Адажио-о-о-о…
Последний звук, вибрирующий, замирающий на немыслимой высоте, длился вечность.
И еще минуту стояла гробовая тишина. Певица наклонила голову, длинные волосы закрыли лицо. Сверкали блестки в волосах, на плечах, на платье.
Зал взорвался аплодисментами и криками: «Стелла!», «Браво!» Народ встал, двигая стульями, и устремился к подиуму. Там началась давка. Уже спешили откуда-то неприметные молодые люди в черном, врезаясь в толпу, аккуратными и точными движениями разводя зрителей, отправляя на места, защищая сцену. Женщина на подиуме стояла неподвижно.
Звяканье стекла заставило Федора перевести глаза на Майю. Она впилась взглядом в Стеллу, по руке ее стекала кровь — она раздавила в руке бокал. Федор протянул ей салфетку. Она не поняла, взглянула вопросительно, смутилась.
— Необычный голос, — сказал Федор, кашлянув.
— Голос… ангельский! — почти выкрикнула Майя. Федору показалось, что она плачет.
Он налил коньяк в рюмку, протянул художнице. Она взяла нерешительно, а он вспомнил, как Речицкий испугал ее, протянув бокал с шампанским, — и выпила, запрокинув голову, одним глотком. Утерлась рукой и расхохоталась. В смехе ее звучала горечь. Федор подумал вдруг, что так смеются над собой, проиграв в игре, где ставка — жизнь.
— Хотите уйти? — спросил он, наклонившись к Майе.
— Нет!
Зрители шумно возвращались на свои места. Стелла застыла, по-прежнему не поднимая головы. Федор видел, как легкий сквознячок шевелит ее платье…
Стелла спела еще несколько песен — Федор знал только одну — «Женщина в любви» Барбары Стрейзанд. До самого конца концерта никто из них не произнес ни слова.
— Спасибо, Федор, — сказала Майя, когда певица под крики и аплодисменты ушла со сцены.
— Вы знакомы со Стеллой? — Он наконец задал свой вопрос.
Майя молча кивнула. Озадаченный Федор не знал, что и думать. Лицо у художницы стало измученным и бледным, хотя, казалось, куда уж больше. Она поминутно пригубливала воду, и Федору казалось, что Майя удерживается от каких-то слов. Ему хотелось расспросить ее о певице, но он молчал, мудро решив про себя, что, если она захочет, расскажет сама. Майя тоже молчала, иногда взглядывала на него и тут же отводила глаза. Федор недоумевал — чего она ждет? Может, каких-то его слов? Несмотря на свой небедный жизненный опыт, он терялся и, наконец, предпочел выждать. Молчащий человек значителен, некоторым вообще лучше не открывать рта. Правда, последнее к нему не относится, он умел говорить и оставаться при этом значительным.
Он не сразу узнал в женщине, подошедшей к их столику, Стеллу. Она сменила свое роскошное платье на скромное синее, а волосы забрала в конский хвост, лишь грим остался нетронутым. Она остановилась и спросила:
— Можно?
Федор вскочил и отодвинул стул. Стелла взглянула на него с улыбкой, протянула руку. Ладонь у нее была крупная и горячая, пожатие крепкое.
— У вас изумительный голос! — выпалил Федор и поморщился внутренне — получилось банально.
Стелла кивнула. Теперь он мог рассмотреть ее вблизи. Крупные черты, нос с горбинкой, широкие брови, слишком большой рот. Грубоватая красота, что-то гротескное почудилось Федору в лице дивы — то ли из-за избытка макияжа — веки ее были тяжелы от сине-серебряной краски, ресницы торчали стрелами, волосы и щеки мерцали блестками, — то ли из-за неестественно белого лица и полного отсутствия мимики. На губах ее, казалось, навсегда застыла легкая улыбка, кончики рта по-клоунски задирались кверху, и правая бровь была слегка приподнята — будто она прислушивалась к голосам, слышным ей одной, прячась под доброжелательной и снисходительной маской.
«Маска! Вот оно!» — осенило Федора. Лицо дивы походило на маску.
— Что, ответный визит? Как ты меня нашла? — Дива перевела взгляд с Федора, которого рассматривала с доброжелательным любопытством, на Майю.
— Случайно. Почему ты здесь? — Голос художницы звучал враждебно.
— Мне здесь нравится.
— Но почему?! — выкрикнула Майя. — Объясни мне, почему?
Федор судорожно выискивал предлог, чтобы оставить их одних. Что-то происходило на его глазах, закручивался некий вихрь, водоворот, поднимая муть и тревожа обросшие водорослями валуны на дне омута.
На глаза ему попалась плотная, чтобы не сказать толстая, фигура всеобщего знакомца, «желтоватого» журналиста Леши Добродеева, сидевшего за барной стойкой. Как ни странно, в одиночестве. Федор поспешно встал, извинился — пробормотал, что увидел старинного приятеля. Стелла протянула руку и сказала, глядя ему в глаза:
— Не пропадайте… Федор, кажется? У меня плохая память на имена. Вы знаете, где меня найти.
К своему изумлению, Федор почувствовал, что у него загорелись уши.
Завидев его, Леша Добродеев обрадовался и заорал:
— Федорыч! Давай сюда! А то я тут один, как дырка на картине! Ни одной собаки знакомой!
Комплимент, однако. На Лешу не обижались, на него не принято было обижаться, наоборот, его дурацкие замечания и шуточки тут же тиражировались и цитировались записными городскими острословами. Несмотря на придурковатый вид, журналист был далеко не дурак, нос держал по ветру и знал все городские сплетни. Это был именно тот человек, который нужен Федору и которому он собирался задать пару вопросов.
Они обменялись рукопожатием. Леша оказался изрядно на взводе, размахивал руками и орал по своему обыкновению. Он кивнул бармену, и тот потянулся за бутылкой «Джонни Уокера».
— За встречу! — Добродеев сделал широкий жест рукой, и Федор придержал его за локоть — ему показалось, что Леша сейчас свалится.
Они выпили и закусили орешками. Леша бросил в рот целую горсть.
— На Штеллу шлетелись! — шепеляво произнес он, дожевывая орешки. — Какой голосина, а? Сила, тембр, красота нео-пи-су-емая! Можешь мне верить, Леша в этом понимает, он консерваторию закончил, сам поет, знающие люди говорят, вполне профессионально. Четыре октавы! Даже четыре с половиной!
Журналист любил говорить о себе в третьем лице, и собеседник иногда терялся, пытаясь сообразить под словесным напором, о ком идет речь.
— Один на миллион, да что там на миллион! На десять миллионов! Вообще один на планете! Космический! Энергетика зашкаливает!
Леше хотелось болтать, он соскучился без общества. Федор молча внимал.
— Все театры мира рыдают! — журналиста несло. — И ни в какую! Нет, я всегда говорил, они не от мира сего, эти великие! С прибамбасами! Я сейчас пишу статью! Хочу накропать ее биографию, это будет бомба! Оставлю тебе экземплярчик! Уламываю, она пока ни в какую, но ты меня, Федорыч, знаешь! Я, если что задумал…
Ознакомительная версия.