Он стал читать.
"Уважаемый господин Левин!
Благодарю Вас за внимание, которое Вы проявили к моей просьбе. Со своей стороны я сделаю все, чтобы оказать Вам содействие. Поскольку это дело лично мое, любая Ваша просьба, если она будет касаться моей семьи, не будет мною воспринята как праздное любопытство или бестактность с Вашей стороны. Порывшись в бумагах дяди, я обнаружил его дневники из плена, адресованные его жене. Не знаю, официально ли они были отправлены из России или с какой-нибудь немыслимой оказией. Из писем понять этого нельзя.
Не уверен, что эти epistolae окажутся Вам полезны. Впрочем, Вам, специалисту, виднее. Перевод с немецкого выполнен квалифицированным переводчиком.
С уважением Густав Анерт" "Хорошо стелет, – усмехнулся Левин. – Один стиль чего стоит!.. Ладно, пойдем дальше", – он отложил письмо и взялся за ксерокопии.
"Дорогая Энне!
Итак, еще одну Пасху мы отпраздновали – каждый в одиночестве: ты дома, а я в плену. Но все равно в эти дни оба мы были с Богом, радуясь Воскресению Христа. Прости, что пишу тебе на такой плохой бумаге, иной тут нет. У меня некоторые приятные перемены: многих из нас расконвоировали, и в город на работы мы ходим втроем. Один – сапожник из Ганновера, а двое портных, австриец из Зальцбурга и пожилой человек из какой-то деревни в Пруссии. Работают они в мастерской "Военторга". Я же в конторе прораба на авторемонтном заводе, который восстанавливают из руин. Ходить по городу до места работы и обратно – мы можем сами, но иногда нас сопровождает молоденький симпатичный русский сержант, зовут его Юра. Как я понимаю, он охраняет нас от какого-нибудь недоброжелательного поступка со стороны населения. Но на нас, пожалуй, никто не обращает внимания, люди заняты своими заботами…" Дальше все шло в том же духе – всякие бытовые подробности. В конце дата: "21 мая 1947 года". Из этого послания Левин выудил для себя сущую мелочь, которую записал на листе бумаги: "сержант Юра", "прораб" и "авторемонтный завод". Речь шла, видимо, а Старорецком авторемонтном, который находится в старой части города.
Второе письмо было написано уже восьмого ноября:
"Дорогая Энне!
Я здоров, чувствую себя неплохо. Правда, начали шататься зубы – не хватает витаминов. Пошел слух, что нас скоро отпускают домой. Сержант Юра сказал мне, что будто из лагерей в других местах кое-кто уже уехал в Германию. Но может быть, это просто слухи, всего лишь желаемое. Я понимаю, как тебе тоскливо и одиноко. Плохо, что у нас нет детей. Надеюсь, угля тебе хватает: меня нет, и верхний этаж нашего уютного дома отапливать не надо. Очень хочется знать, как ты живешь, кто вернулся с войны в нашей деревне, как они смотрят на все, что произошло?
Работаю я там же, в конторе прораба, окружающие относятся ко мне незлобливо, иногда обращаются за советом, я ведь все-таки инженер-строитель. Познакомился я с доброй женщиной, зовут ее Рита, ей около тридцати (ты, пожалуйста, не ревнуй, повода нет, иначе не писал бы тебе о ней). Она одинока, родители где-то в другом городе. Работает Рита кладовщицей в инструментальном цехе. В перерыве она иногда зазывает меня к себе в каморку и угощает тарелкой супа или каши, делится хлебом. А я не могу понять этой незлобливости. Какой-то мазохизм. Пишу тебе об этом в связи с чем. Вчера мы работали две смены, до девяти вечера, потому что на следующий день у русских не рабочий – 7-е ноября, – большой их национальный праздник. После работы прямо в цехе был концерт, а после него – кино. Я решил остаться, посмотреть. Пока шел концерт, я помылся в душевой, а потом сел рядом с Ритой, она сказала, что фильм музыкальный смешной, комедия, называется "Веселые ребята", и что я все пойму. Но перед фильмом показали хронику о зверствах в немецких концлагерях для русских. Такого кошмара нет в аду Данте. Сперва мне показалось, что это все не настоящее, как обычно в кино, придумано. Потом мне стало страшно, я почувствовал себя с теми, кто был обречен на страдания. Но тут же меня охватил ужас, когда я всмотрелся в тех, кто творил это зло: они ведь тоже были живыми людьми. И больше того, – я вспомнил, что на них почти такая же форма, какую носил я и подобие которой и сейчас на мне, несмотря на то, что истрепаны шинель, китель и сапоги. Я испугался, что кончится кино, зажжется свет и все вдруг увидят меня, станут молча (если только молча!) смотреть на меня, как на прокаженного, вокруг которого образуется пустота, а я один останусь в центре, видимый всеми. И Рита увидит как-то иначе меня, мою шинель. И предстоит встретиться с ее глазами. Что испытаю, когда на меня обрушится во взглядах ненависть. Ненависть всех, но не на тех извергов, кто был только что на экране и уже исчез, а на меня одного живого, единственного здесь перед ними символа зла. И обратившись мысленно к Богу с горькими словами, я, что-то шепнув Рите, не стал дожидаться кинокомедии, а, пригнувшись, в темноте покинул цех и пошел через пустырь, сквозь мокрую метель. Через полчаса я уже был у себя в бараке…
Я беседую с тобой, дорогая Энне, словно жду какого-то твоего совета"…
На этом письмо почти заканчивалось, оставалось несколько ничего не значащих строк, дата и подпись. Левин был человеком не сентиментальным, за свою жизнь он прочитал уйму всяких бумаг, где люди исповедовались, выворачивались наизнанку. Но для Левина это являлось всего лишь документом, подшитым к делу. Поэтому и к письму Кизе он отнесся весьма спокойно, оценив его, как еще одну черточку к картине, которая никогда не будет дописана, поскольку слишком много у нее создателей… И живых еще, и уже мертвых, как Алоиз Кизе и его жена Энне…
Письмо это тоже принесло Левину не очень много, на листок бумаги он выписал: "Рита (очевидно, Маргарита) – кладовщица в инструментальном цехе". Скудным уловом после прочтения обоих писем он не был разочарован, профессия приучила не обольщать себя надеждами, а пользоваться тем, что Бог послал. Он еще не думал, не знал, что станет делать с этим сержантом Юрой и кладовщицей Ритой, затерявшимися в почти полувековой давности среди тысяч и тысяч других Юр и Рит, но одна мысль все же возникла, и он стал писать письмо Анерту в Мюнхен.
"Уважаемый господин Анерт!
Ваше письмо и ксерокопии писем Вашего дяди к жене получил. Благодарю Вас за содействие. Буду откровенен, не могу сказать, что они меня очень вдохновили. Вы оказались правы: письма слишком личные, бытового характера. Но поскольку в них есть даты, я просил бы Вас посмотреть дневники господина Кизе, нет ли там записей, относящихся к этому времени. Если таковые обнаружатся, я хотел бы с Вашего разрешения с ними ознакомиться и узнать Ваше мнение, каким образом эти дневники после смерти Вашего дяди в Старорецке оказались в Мюнхене у его жены.
Пожалуйста, постарайтесь это сделать как можно быстрее (в наших обоюдных интересах).
С уважением Е.Левин".
Перечитав письмо, он убедился, что ничего не забыл, вложил в международный конверт и надписал адрес.
Участок – огород, сад и маленький однокомнатный с кухней домик капитана Остапчука – был обнесен новой металлической сеткой, которую, чтоб не ржавела, Остапчук красил корабельным суриком.
На скамейке сидел Михальченко, ел из алюминиевой миски вишни, сплевывал косточки в кулак и высыпал их в ту же миску.
– Эй, Максим, я все-таки гость! – крикнул Михальченко. – Хватит тебе сопеть, куркуль, передохни, покурим, побалакаем.
– Сейчас, вот до столба докрашу, хай сохнет.
Сюда, за город Остапчук пригласил Михальченко, когда они встретились на городском совещании правоохранительных органов. Левин идти отказался: "Сходи-ка ты, я уже стар для этого. Насиделся я на этих совещаниях. Ничего нового там не услышишь". – Неудобно не пойти, Ефим Захарович, раз уж пригласили, снизошли", – сказал Михальченко. – "Вот и пойди"…
Остапчук и Михальченко были когда-то не только коллегами, но и приятелями. Совершенно разные, они умели слаженно работать, потом Михальченко перевели в райотдел. Последние два года виделись они редко, и встретившись в клубе УВД на совещании, обрадовались. "Значит, стал помещиком, имением обзавелся?" – спросил Михальченко. – "Ты не фыркай, посмотришь. Ведро вишни дам. В это воскресенье и поедем…" "Электричкой?" – "Нет, автобусом, час и еще пешком с полчаса. Протрясешься. Вон гладкий какой стал"…
Бросив кисть в банку, оглядев удовлетворенно свою работу, Остапчук вытер руки тряпкой, смоченной в уайтспирите, и сев напротив Михальченко, спросил:
– Ну а ты как в своем кооперативе? Не жалеешь?
– Чего жалеть? Тоже дело серьезное. Только что никто над головой не висит, не дергают ни в областное управление, ни в прокуратуру, ни в райком.
– Заработки приличные?
– Хватает.
– Говорят, Левин к тебе пошел? Вот уж не ожидал!
– Помнишь его?
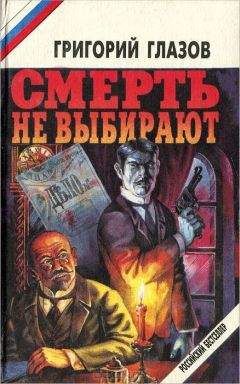


![Филип Фармер - Пир потаенный [ Пир потаенный. Повелитель деревьев]](https://cdn.my-library.info/books/82940/82940.jpg)

