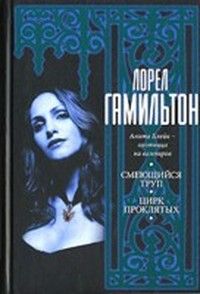Заместитель начальника колонии по политико-воспитательной работе писал Фролову, что Мясников хорошо трудится, активно участвует в жизни коллектива. Новое ощущалось и в письмах самого Мясникова. И вдруг пришло сообщение. Анатолий бежал из колонии...
Прошли годы. Фролов был переведен в другой город. Новые люди, новые встречи, новые печали и новые радости. Неудача, постигшая его с Мясниковым, стала постепенно забываться. Во время одной из командировок в Москву Фролов встретился в прокуратуре РСФСР с Николаевым, теперь уже подполковником.
- Кстати, - сказал Николаев, - тебе в прокуратуру письмо пришло. От кого - не знаю. На конверте написано: "Лично". Переслать?
- Пришли, - сказал Фролов.
И вот это письмо передо мной.
"...Верно, забыли, Николай Николаевич, про Толика Самурая, а он про вас помнит, - писал Мясников. - Память, как наколку, ничем не вытравишь. Все помню: и как возились со мной, и что говорили. Небось думаете, что врал я вам все тогда, волчий вой за овечье блеянье выдавал. Немного было, не спорю, придуривался, а только многие ваши слова, как после оказалось, глубоко мне запали. Но когда из колонии уходил, об этом не думалось: весна звала. В общем, "зеленый прокурор" на моей просьбе о помиловании свою резолюцию кинул. Как добрался домой, рассказывать не буду: и вам это безынтересно, да и мне не особо. Остановился у одного своего дружка, Ванюшки Плужкова. Только там меня приняли неласково. Сам Ванюшка ничего, а семья косится: боится, чтобы снова его к делу не приспособил. Встал тут вопрос: что дальше делать? Документов-то у меня никаких не было. А без документов гулять, что на острие ножа русскую танцевать. Познакомился я с одним мужичком, который только что из колхоза уехал, и продал он мне свою справочку. Так стал я нежданно-негаданно Анатолием Петровичем Сухоцким. Только справочку эту надо было на паспорт менять, а на месте менять я поостерегся. Поэтому очень я обрадовался, когда прочел про вербовку в леспромхоз в Архангельскую область. Расчет, сами понимаете, был простой: поработать месяца два, а потом через начальника участка все бумажки оформить. Желающих ехать у них не очень-то хватало, меня и взяли без всяких разговоров. Поехал..."
* * *
Лесопункт оказался небольшим поселком. Толика Самурая поместили в комнату, куда с трудом втиснули семь коек. Соседями его были дядя Митяй, природный северянин, и богатырского сложения парень с невинным лицом новорожденного младенца Василий Лукин. В день приезда не работали: получали на складе постельное белье, обустраивались, мастер распределял вновь прибывших по бригадам. После ужина, собрав вокруг себя ребят, дядя Митяй долго объяснял устройство продольной пилы. Вместо "ч" он выговаривал "ц". От этого речь его становилась цокающей, непривычной для слуха. "Цего сейцас не поняли, потом поймете, - сказал он в заключение. - Главное, нашу поговорку запомните: "Тресоцки не поешь, цаецку не попьешь - не наработаешь", - и в подтверждение своих слов отправился ставить чайник.
Мясников с любопытством приглядывался к этим людям, так непохожим на тех, среди которых он провел всю свою жизнь, прислушивался к их разговорам, шуткам.
Да, Фролов был в чем-то прав, Мясников это чувствовал. Здесь не было взвинченной истеричности, столь характерной для преступного мира, постоянной настороженности, болезненного желания проявить себя, сломить и подчинить более слабого. И помимо общих интересов у каждого были свои. Васька по самоучителю учился играть на гитаре и каждый вечер от доски до доски прочитывал "Комсомольскую правду". И читал не потому, что его избрали комсоргом, а потому что ему было просто интересно. Восемнадцатилетний Володя учился заочно на первом курсе строительного института. Рыжий Алексей, с лицом, изъеденным оспой, был заядлым охотником. А дядя Митяй занимался различными техническими усовершенствованиями.
У всех у них была своя интересная жизнь, друзья, родные, жены, любимые девушки, планы на будущее. Их все касалось и затрагивало: международная обстановка и новые расценки, положение в сельском хозяйстве и итальянские кинокартины, урожай на яблоки в Крыму и расцветки ситца. Но самым непонятным был их интерес к труду, о котором Фролов так много писал в своем последнем письме к нему.
Нравится им это, что ли?
Самому Толику Самураю "это" определенно не нравилось. От непривычного напряжения ныла поясница, на ладонях вздулись пузыри. Находясь в общей сложности около семи лет в местах заключения, он там никогда не работал. Его отправляли в закрытые тюрьмы, сажали в карцер, но заставить работать не могли. Он не работал из принципа, следуя воровскому закону. Теперь принципа не было, была только усталость...
По утрам, задолго до рассвета, всех ребят в комнате будил дядя Митяй. Его рокочущий бас разбивал самые сладкие сны. Но в тот день один человек все-таки не проснулся...
- Анатолий, слышь, вставай! - потряс его за плечо рыжий Алексей.
- Иди ты знаешь куда...
Мясников выругался и повернулся к стене.
В комнате воцарилось неловкое молчание.
Потом Алексей, красный от возмущения, сжал кулаки и нагнулся над койкой.
- Если сейчас же не встанешь, за волосы стяну!
- Что?
Узкие и без того глаза Толика Самурая превратились в щелки. Он приподнялся на кровати.
Еще одно слово - и быть бы беде... Но в разговор вмешался Лукин.
- Чего пристал к парню? - строго спросил он, легонько отодвигая плечо рыжего. - Раз не встает человек, значит, не может. А ты, Анатолий, тоже зря. Захворал - так скажи.
- Да, видок неважный, должно, простыл, - поддержал дядя Митяй. - Пусть отлежится.
Ребята ушли, оставив на тумбочке аспирин, несколько яблок (из посылки, которую на днях получил из Крыма Володька) и стакан крепко заваренного чая.
- Ну что ж, покимарим с разрешения общего профсоюзного собрания, усмехнулся Толик Самурай, закутываясь в одеяло.
Но уснуть он почему-то не смог...
* * *
"...Случай как бы пустяковый, - писал Мясников, - а свет он мне на многое пролил, задуматься заставил. Помните, Николай Николаевич, мы с вами о человеке спорили, какой он есть, человек. Я вам еще говорил, что честных я только на плакатах видел. А тут в натуре пришлось. Очень удивительно мне это показалось. Не скажу, Николай Николаевич, чтобы совесть так уж мне жить мешала. Обман был моим ремеслом, а обман "мужика" я считал чуть ли не подвигом. Но суть-то в том, что когда я обманывал, то люди сопротивлялись, что ли, моему обману. Во всяком разе, еще никто не помогал мне мою руку в свой карман просунуть. А тут все наоборот получилось: не поверили люди, что я их обмануть могу. Да и не собирался я их обманывать, а сами они себя обманули. Верили они в меня, не представляли, что вот Толик Самурай просто так, за здорово живешь, от работы отлынивает. Да и какой я был для них Толик Самурай, за своего кровного дружка считали, в огонь и воду за меня бы пошли. А я жру их яблоки и лежу ноги кверху. Чудно! Такая буча у меня в голове поднялась, что никак разобраться, что к чему, не могу.
Неинтересно тот день я провел. А на следующий собрался на делянку. Но Васька не пустил. "Пусть, - говорит, - Толя, тебя план не волнует. Отработаем за тебя, и в заработке не пострадаешь. Отлежись". Что тут скажешь? Смешно, и злость разбирает.
Понемногу привык, норму начал выполнять. По вечерам от нечего делать стал на шофера готовиться. А то пошло получалось: каждый чем-нибудь занимается, а я как неприкаянный из угла в угол хожу. Так все и идет, как будто всю жизнь только и делал, что на лесопункте вкалывал. А между тем думаю, что пора и в дорогу собираться. Поигрался и хватит. Тут и случай один подвернулся... Заболел кассир наш. Хилый был старичок, на ладан дышал. Ну, нас с Васькой и послали в Няндому за деньгами. Даже не поверил я, что так подвезло. Только когда расписочку написал и бумажечки пересчитал, дошло. Гуляй, Толик!
А надо сказать, что Васька в тот самый критический момент в райком комсомола по каким-то своим делам пошел, и должны мы были с ним встретиться в Доме колхозника.
Ну и махнул я прямиком на станцию.
Через полчаса сидел я уже за столиком в вагоне-ресторане и водочку попивал да зернистой икоркой закусывал.
Не зря, думаю, ты, Толик, жизнь свою ставил на карточку, когда из колонии бежал, дыши, пока дышится. За все скучные годы, что выпали тебе, отвеселиться привелось!
Выпил я за Васькины производственные успехи, за физический труд, который облагораживает человека, за своих дружков, которые так и не ознакомились с устройством продольной пилы. Выпил и... сошел на первой остановке. Будто столкнул меня кто-то. Подошел к кассе и говорю кассирше:
- Если не видели, девочка, круглого идиота, то посмотрите на меня. Это я.
Посмотрела она на меня внимательно, но билет до Няндомы все-таки дала. Сажусь я в обратный поезд, а самого дрожь бьет. Что, думаю, дурак, делаешь? Что делаешь, медный лоб?
Слезы на глазах, а еду, обратно еду, в Няндому.