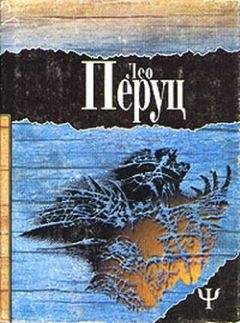— Ничего нет на полу; вы, сударь, по-видимому, ошиблись.
— Она должна быть там, я это знаю наверное, поищите еще, — отвечаю я ему.
Но больше он искать не хотел.
— Вы, сударь, уронили тридцать геллеров, я ведь это видел.
Я был в полном отчаянии.
— Их было точно пятьдесят, — повторяю я. — Поищите, они должны сыскаться.
А тут еще вмешивается пришедший господин и ворчит, что из-за моих жалких двадцати геллеров он принужден ждать и что у него нет времени. Я не знал, что делать, и в замешательстве, чтобы выиграть время, сказал:
— А под шкафом вы смотрели? Монета покатилась туда.
Парикмахер заглянул под шкаф, и действительно — представь себе, какой случай! — там оказалась монета… После этого я быстро ушел, но чувствовал себя так, словно меня чуть было не переехал автомобиль… Я раньше никогда не думал, что человеку так часто нужны руки. Гораздо чаще, чем мозг, можешь мне поверить, Стеффи.
— Что же ты теперь будешь делать?
— Да, — сказал Демба. — У меня теперь двойная задача. Во-первых, я должен раздобыть двести крон. Для этого ты мне не нужна, Стеффи, это я могу сделать сам. Но мне нужно отделаться от наручников, и в этом ты должна мне помочь.
Стеффи Прокоп молчала и думала.
— Я все рассказал тебе, Стеффи. Тебе одной рассказал я все. Ты должна решить, виновен ли я или невиновен. Ты знаешь все, все мотивы поведения. Оправдан ли я в твоих глазах?
Стеффи Прокоп покачала головою.
— Нет.
Демба прикусил себе губы.
— Ты, значит, не хочешь мне помочь?
— О да, я хочу тебе помочь. Покажи мне наручники.
— Нет, — сказал Демба. — Если ты находишь, что я не прав, то мне не нужно твоей помощи. Отчего хочешь ты мне помочь, если осуждаешь меня?
— Я тебе только что говорила, Стани, — сказала Стеффи тихо и просительно. — Женщина может любить мужчину, когда он безобразен и когда он глуп. А также, когда он плохой человек, Стани. Покажи мне наручники.
— Нет, — сказал Демба и отодвинулся от Стеффи. — Зачем?
— Но ведь надо мне на них посмотреть, Стани, чтобы помочь тебе.
Станислав Демба беспокойно поглядывал на дверь.
— Кто-нибудь может войти.
— Нет, они еще обедают, — сказала Стеффи Прокоп. — Только после обеда приходит сюда отец и ложится на диван. Покажи же.
Станислав Демба медленно и колеблясь выпростал руки из-под накидки.
— В сущности, мне все равно, считаешь ли ты меня преступником или не считаешь. Я признаю над собою только собственный суд, — сказал он и бросил на Стеффи робкий взгляд, изобличавший лживость его самоуверенных слов.
— Так вот какие они, эти наручники! — тихо сказала Стеффи Прокоп.
— Ты их представляла иначе? — спросил Демба и проворно спрятал снова руки под накидку. — Два стальных обруча и тонкая цепочка.
— Цепочка совсем тонкая, — установила Стеффи Прокоп. — Перепилить ее, вероятно, нетрудно. — Она встала. — У папы есть ящик с инструментами. Погоди немного, я пойду за напильником.
Она вернулась с двумя напильниками разных размеров.
— Теперь ты должен изо всех сил растянуть цепочку. Так, хорошо! Теперь нужно торопиться.
Она принялась пилить стальную цепочку.
— А что бы тебе грозило, Стани, если бы тебя нашли? — спросила она. — Держи руки спокойно, иначе не выйдет ничего.
— Два года тюрьмы, — ответил Демба.
— Два года? — Стеффи с испугом взглянула на него.
— Да. Приблизительно столько. Два года.
Стеффи Прокоп ничего больше не говорила, только старалась с отчаянным рвением пропилить цепочку.
— Да, — сказал Демба. — В этом-то весь ужас. В этом несоответствии между виною и карой. Два года пытки! Два года беспрерывного мучения!
— Тише! — остановила его Стеффи. — Не так громко. Они слышат в столовой каждое слово.
— Два года пытки! — тихо повторил Демба. — Нужно называть вещи своими именами. Тюрьма — это пережиток инквизиции и самый страшный из ее приемов. Мелкие пытки — дыбы и колодки — упразднены, но худшее из мучительств — узилище — мы сохранили. День и ночь быть заключенным в тесной камере, подобно зверю в клетке, — разве это не пытка?
— Сиди спокойно, Стани. Иначе я не могу работать.
— Да, и люди это знают, и все же ходят в театры и на прогулки, и едят, и спят. И никого не лишает аппетита и приятного самочувствия и здорового сна сознание, что в это же время тысячи других подвергаются пытке заключения. Если бы люди были в состоянии вполне уяснить себе эти слова: «два года тюрьмы», продумать их до конца, то не могли бы не зареветь от ужаса и отчаяния. Но у них притуплено сознание, и только однажды низвергнута была Бастилия.
— Но должны же существовать наказания.
— В самом деле? Конечно. Наказания должны существовать. Слушай, Стеффи, я доверяю тебе одну тайну, но не пугайся: наказаний не должно быть на свете.
Демба глубоко перевел дыхание. Покраснев от волнения, запинаясь, хрипло и фанатически он продолжал:
— Не должно быть наказаний! Наказание — безумие. Наказание — это запасной выход, куда устремляется человечество, когда возникает паника. Наказание виновато в каждом преступлении, какое совершается и будет совершено.
— Это я не понимаю, Стани.
— Что человечество властно наказывать, в этом корень всякой духовной отсталости. Если бы не существовало кар, то давно найдено было бы средство сделать невозможным, ненужным и бесцельным любое преступление. Как далеко пошли бы мы вперед, не будь у нас виселиц и тюрем! У нас были бы несгораемые дома и не существовало бы поджигателей. У нас давно уже не было бы оружия и не было бы убийц. У каждого было бы то, в чем он нуждается и чего желает, и не было бы воров. Иногда у меня мелькает мысль: как хорошо, что болезнь — не преступление! Иначе у нас не было бы врачей, были бы одни только судьи.
— Будь же спокойнее, Стани! Я так не могу работать.
— Не выходит у меня из головы маленькая дочурка женщины, моей соседки по лестнице. У этой девочки тоже было однажды столкновение с карающей Фемидой. Мать, держа ее на руках, соскочила с площадки трамвая и упала. Ребенок попал под предохранительную сетку прицепного вагона, ему раздробило ногу, и ее пришлось ампутировать. Казалось бы, и мать и дитя в достаточной мере несчастны теперь. Но нет, этого мало! Тут только выступает на сцену правосудие и желает их покарать. Матери предъявляют обвинение в нерадении и приговаривают ее к денежной пене в тысячу крон. Она — вдова почтового чиновника. Но тысяча крон у нее есть. Она их отложила для своей девочки. И ребенок, ставший калекою, должен еще стать нищим: так желает правосудие! Ребенок должен голодать. Видишь, как обстоят дела, когда карают судьи человеческие! И этим-то судьям, с их гнусной манией «наказания», я должен был отдаться в руки?.. Ты еще не кончила, Стеффи?
— Нет! Ничего не выходит! Цепочка слишком крепка! Ничего не выходит, Стани! — всхлипнула Стеффи и взглянула с отчаянием и безнадежностью на несчастные руки Станислава Дембы.
— Что с тобою, обезьянка? Мне кажется, ты плачешь. Что случилось?
Господин Стефан Прокоп так внезапно появился в комнате, что у Дембы не было времени спрятать руки под накидку. Студент замер на стуле в неподвижной позе и нашел временный приют для своих рук под доскою стола.
— Что-нибудь произошло между вами? — спросил Дембу господин Прокоп.
— Решительно ничего, — сказал быстро Демба. — Стеффи плачет потому, что мою собачку переехала подвода; это ее так взволновало.
Он видел с большим беспокойством, что господин Прокоп направляется к дивану, откуда можно было заглянуть под стол.
— Переехала? — спросил Прокоп.
— Да. Подвода с мясом.
Руки Дембы искали прикрытия за спинкою одного стула, но так как господин Прокоп неожиданно прервал свой обход комнаты, то им пришлось поспешно скользнуть опять под стол.
— А я совсем не знал, что у вас есть собака, господин Демба. Помню хорошо: когда вы у нас жили, то терпеть не могли собак.
Господин Прокоп лег на диван.
— Она ко мне пристала, — сказал Демба.
Пространство под столом оказалось прибежищем сомнительной ценности.
— А какая она была? — интересовался господин Прокоп.
— Маленький пинчер в коричневых пятнах. Разве вы не помните, я ее как-то приводил сюда? — объяснял Демба и силился отгородиться от господина Прокопа широкой спинкою стоявшего поблизости стула.
— В самом деле, что-то припоминаю. — Господин Прокоп выпустил из своей трубки облако дыма в воздух. — Как бишь звали ее?
— Кир, — сказал Демба, которому в этот миг пришла в голову только кличка его утреннего врага. Господин Прокоп вытряхивал в это время трубку, и нужно было быстро воспользоваться этим мгновением.
— Кир? Правильно, — сказал Прокоп. — Забавное прозвище для собаки. Так она, стало быть, почила блаженным сном? Ну что ж, соболезную вам. Обезьянка, перестань же наконец реветь. Ступай в столовую, твой обед простыл. — Он зевнул. После еды его всегда клонило ко сну. — Вообще, разве тебе не нужно сегодня днем идти в контору?

![Лео Перуц - Прыжок в неизвестное [Свобода]](https://cdn.my-library.info/books/194277/194277.jpg)