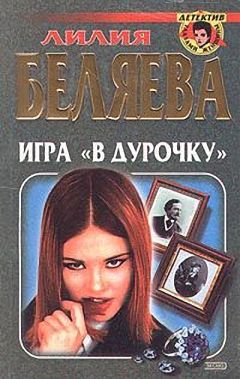— Ну почему опять я? — попробовала пискнуть. — Это же противно! Это же блевотина! Они же выкобениваться начнут. Они же себя в суперменах держат, а нас, журналистов, — в прислугу записали…
— Противно! Согласен! Отвратно! — рявкнул Макарыч, выворачивая свое ухо. — Я пожил, я повидал! Я в печати сорок лет! Но нам с тобой, как ив сему коллективу, надо выживать! Сколько раз повторять очевидное! Да, да, газете нужна хамка, бездарь, хабалка Марселина, она же Маня Облезова из поселка Кривоштаново! Позарез! Потому что она на слуху! К её обезьяньим ужимкам по телеку зритель давно привык! Читатель жаждет блевотины! Горячих подробностей, с кем, где, когда! Не дай ему их — отвернется от газеты! Иди, смотри, слушай, записывай! Может, всю нашу газетку и покупают ради одних светских сплетен! Ради того, что ты сгоряча обозвала «блевотиной». Скажите, какая чистоплюйка! Действуй! Утром жду с трофеями! Есть-то хочешь каждый день?
«Дело было вечером, делать было нечего…» Есть я, действительно, хотела каждый день. Более того, по три раза… Значит, нечего кочевряжиться и — пошла-побежала вытягивать из всякого рода попсовых, полупопсовых и прочих знаменитостей подробности их закулисной, потайной жизни, «раскручивать» их с ловкостью проститутки на «задушевный» разговор, подлавливать их откровения, едва они зазеваются…
Как же мне все это обрыдло! Однако так получалось, что в какую газетку ни приду, где зарплата не совсем смешная, — меня сейчас же и готовы посадить на всякого рода «Светские хроники», «Новости интима» и прочее… Так что моя мечта заняться «чистым» искусством пока высоко где-то парит, а в руки не дается…
А сколько раз, договорившись с «объектом» о встрече и интервью, никакого «объекта» на месте не находишь! Наплевал он на тебя и все! Светской учтивостью веет уже от того «светила», которое после вчерашней отключки, а попросту пьянки, плохо соображает, но языком старается ворочать с известной грацией маневра:
— Простите, ради Бога… грипп… или простуда… Слег… В другой раз… Готов, всегда готов!
Тошно вспоминать, как вела себя со мной стареющая мадама-певичка, которая с лучезарной наинежнейшей улыбкой выскакивает на сцену, раскинув руки! Ее, неповторимую, обкормили славой настолько, что она весь остальной мир навострилась видеть только распростертым у своих ног. А журналисток держит в роли девок-чернавок. Ну хотя бы потому, что у нее, мадамы, силиконовая грудь торчит от Москвы до Калуги, во лбу горит бриллиантовая звезда. У тебя же, «служительницы пера», на пальце перстенек, не дотягивающий по цене даже до миллиграмма её искусственной челюсти… С каким показательным пренебрежением отмахнулась она от меня в Доме кино:
— Договорились? Разве? Ну и что? У меня пропало желание беседовать с вами.
А мне в тот момент так хотелось рявкнуть: «Хамка! Не позавчера ли ты голяком, пьяная ползала вокруг бассейна в клубе «Пингвин», пока не свалилась туда? И облевала все кругом? Видели бы тебя в тот момент твои поклонники!»
Омерзительное ощущение от подобных тет а тетов! И вот что интересно большинство выскочек из провинции, долго бегавших по нужде в деревянный скворечник на другом конце двора, выбившись в люди, приложив сверхусилия, сверхтерпение, сверхнахрап, превращаются в паскуднейшие существа. Именно они с особым вдохновением кочевряжатся перед журналистами, официантами, проводниками вагонов и т. п. Вроде, мстят им за то что они, все-таки, помнят, из какого помойного ведра их выхватил случай, как им пришлось и грудки свои, и губки, и прочее предлагать «нужным людям», пока не сыскался тот, кто решил поставить на эту самую шалую лошадку! Гнусное чувство у тебя, подневольной собирательницы светских скандалов, скандальчиков, коллекционерши пикантных подробностей из жизни «имен» — словно возишься и возишься в помойном ведре по локоть в грязи…
Фотокор Михаил Воронцов, «афганец» и любитель насекомых, ждал меня у пылающего огнями входа в престижную эту ночнушку-казино «Эльдорадо-презент». У него был внушительный рост, а нога просто немыслимого размера. Одним словом, с этим мальчиком мне можно смело ступать под своды заведения, где гуляют, пьют, глотают «экстази» и другую такую же дрянь, где все гремит-грохочет и, словно психованные, мечутся огни прожекторов, лучи лазеров, визжит очень молодое поколение, дергающееся в бешеном ритме и куда заглядывают в поисках примет «настоящего демократического развития» всякого рода «иностранные гости» и наши «звезды», потускневшие от слишком долгого «употребления», а также кое-кто из политдеятелей, строящих каьреру на клоунаде и эпатаже, которые в чести у торгашей с Тишинки и Привоза. Ну и, конечно, тут посиживают разомлевшие, целиком и полностью удовлетворенные жизнью «новые русские» со своими «сотовыми» и размалеванными красотулями, а их телохранители отираются поблизости, то и дело промокая пот с могучих борцовских шей, обрамленных белой розеточкой воротника.
Марселину я почти сразу же заметила сквозь дым, звездную пыль, грохот музыки, световые переплясы в ритме последних, сногсшибательных секунд неостановимого спаривания звероящеров какого-то там запещерного периода. Она, моя драгоценная добыча, сидела за столом в одной розовой комбинашке, что ныне, согласно приговору последней моды, следует именовать вечерним платьем. Волосы свои, рыжие, как апельсин, она взбила под небеса, губы покрасила фиолетовой помадой. В пальцах с нарощенными длиннющими ногтями той же фиолетовой раскраски она держала бокал с шампанским и, тряся грудью, открытой всем ветрам и взглядам, хохотала над тем, что ей нашептывал на ухо томный юноша с телевидения, известный «культуролог» Бенечка. В его ухе посверкивала золотая серьга. В её оттянутых мочках дрожали и переливались целые вавилонские башни из золота и каменьев. По другую сторону от неё вольготно развалился в кресле сам богач Бурцилаев, обладатель большого живота, розовой рубахи, голубого пиджака и галстука в горошек. Естественно, как нынче принято в высших слоях атмосферы, на его волосатых пальчиках-сардельках брызгали огнем крупные драгоценные камни в золотой и какой-то там ещё оправе.
Мое вторжение в свою жизнь Марселина восприняла, мягко говоря, скептически. Быстреньким, цепким глазом она прежде всего оценила мои одежки и, верно, осталась довольна: черные джинсы, купленные мной на рынке и шелковая рубашка навыпуск, приобретенная, прямо скажу, там же, отнюдь не производили впечатления любимых произведений того же Юдашкина. Но вот мои длинные светлые волосы, нисколько не крашеные, а может, и мои вполне голубые глаза её как бы не устроили.
С наигранной легкостью дружелюбия я принялась объяснять ей, как долго искала её, как звонила — не дозвонилась… и вот — просто чудо, и она, конечно же, понимает, что беседа с такой «звездой» нашей эстрады — сюрприз для читателей газеты, подарок судьбы…
— Господи! — с фальшивой досадой изрекли фиолетовые губешки. — Не дадут отдохнуть! Всюду найдут! Ну будто Марселина одна на свете!
— Одна, Марселиночка, одна-единственная! — вязался теле-культуролог, женственно поводя плечами и играя голосом. — Для нас, журналистов, ты, дорогая, самое вкусное, изысканное блюдо! Не надо сердиться! — он подмигнул мне приятельски. — Надо уступить и дать девушке заработать немного. Ты же не злая, Марселиночка! Ты же не капризная, как Эльвира! Ты же понимаешь, что все хотят жить и жить хорошо…
— Ладно, давай задавай свои вопросы! — отозвалась «звезда». — Как твоя газета называется? Боже, какое дурацкое название! Тебе как, что, больше мои политические взгляды интересуют или… — она хохотнула в бокал, — или с кем сплю? А что это за чучело рядом с тобой? Борода, ты чей будешь?
Я сидела скромненькая, с дешевым диктофоном в руках и, в душе проклиная эту хамку, старалась глядеть на неё с улыбкой понимания и почтения.
— Я — фотокор, — басовито прогудел Михаил за мой спиной. — Моя задача — снять вас убойно, чтоб все дальнобойщики повесили вашу фотку у себя в кабине и всю дорогу от Хабаровска до Марселя любовались.
— Бурцилаев! — Марселина ткнула ногтем в жидкий живот своего спонсора. — Бурцилаев! Слышишь? Эти х…вы корреспонденты мне нравятся! Я с ними закадрю! Бурцилаев! Еще шампанского! И жрачки! Пусть от пуза напьются-наедятся! Пусть запомнят Марселину, какая она вся из себя простая, доступная, хоть и пьяненькая… Но мужик, Борода, мне больше нравится, чем девка! Люблю правду! Девки — дерьмо!
— Дэвушка! — улыбнулся мне денежный толстяк. — Не надо обижаться. Марселина так шутит. Она хочет сказать, что не лесбиянка!
Мне бы встать и уйти. А прежде рубануть:
— Пошла ты!
А еще, если бы дала себе полную волю, имела право обнаружить немалые знания про эту самую Марселину, которую в Киеве знали как Софу Кобенко, выпускницу бухгалтерских курсишек, которая с завидной прытью, при весьма средних вокальных данных, сумела переспать с целым взводом, а может, и дивизионом дядечек разных возрастов, очень полезных в деле «раскрутки». И я, между прочим, если уж на то пошло, могла бы отчеканить голосом кое-что из словаря ненормативной лексики.