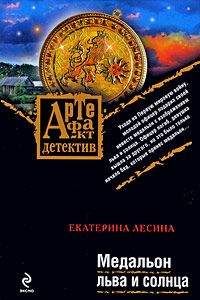Ознакомительная версия.
Мне стало очень-очень жаль Константина Андреевича, наверное, тяжело вот так всем отказывать, огорчать людей.
– И слухи опять же, постоянная слежка, с кем пришел, с кем ушел… Нет, Берта, слава – тяжкое бремя, сама увидишь.
Киваю. Ладони у Константина Андреевича сухие и горячие, а глаза – серые и блестящие.
– Ну да пойдем, надо поработать.
Работаем недолго, здесь, вне съемочной площадки, все слова фальшивы, но я стараюсь. Одна сцена, другая, третья, их немного – роль маленькая, но мне хочется сыграть так, чтобы Константину Андреевичу понравилось. Он же, сидя на диване, следит. Молчит. И в сгущающихся сумерках молчание это кажется мне зловещим.
И в конце концов я, позабыв очередную реплику, останавливаюсь.
– Берта, Берта, ты – чудо! Ты – самое настоящее чудо! Нет, ну вот чтобы так… – Константин Андреевич захлопал в ладоши. – Великолепно! Ты сумела показать героиню совсем с иной стороны…
Он поднялся, прошелся по квартире.
– Не знаю, хорошо это или нет, все же образ предполагался несколько иной, но все-таки… если подумать… и злу нельзя отказывать в праве на человечность. Верно?
– Не знаю.
Я не вижу в Сашеньке зла, она… она немного другая, вот и все.
– Она – отрицательный персонаж. – Константин Андреевич, присев на корточки, смотрит снизу вверх. – Она – ленивая, безалаберная, безответственная, подверженная тлетворному влиянию Запада, мечтающая о вещах, совершенно непозволительных для юной девушки.
Я киваю, я соглашаюсь с каждым словом, ведь он, Константин Андреевич Мышин – гений, а я – всего-навсего актриса. И даже еще не актриса.
– В ней нет целеустремленности и стержня, который делает человека человеком.
Стержень представляется мне чем-то вроде позвоночника, только жестким, как шпала.
– И именно поэтому Дмитрий предпочитает Сашеньке ее сестру, понимаешь?
Нет.
– Ты должна постараться, должна показать, что красивая оболочка – это еще не все, что главное в женщине – душа, чистая, светлая, совсем как у тебя, Берта. А ты играешь так, что твою Сашеньку только и остается, что пожалеть. Это неплохо, но жалеть ее должны не за то, что Дмитрий женился на другой…
– А за что?
– Ну хотя бы за слабость ее, за беспомощность, за нелепое тяготение к чуждым идеалам. Ты ведь умненькая девочка, Берта, и у тебя все получится, я в это верю.
– Спасибо.
– Да что ты, – он машет рукой. – Нечего благодарить, это мне, как творцу, несказанно повезло наткнуться на тебя… кто бы мог подумать, что в провинции встречаются подобные цветы? Ну да ладно о работе. Устала? Есть хочешь?
Устала. И да, хочу. В общежитии, куда меня устроил Константин Андреевич, девчонки, наверное, уже чай попили, с баранками, и карамелью «Взлетной», и с Машкиным вареньем, которое ей мамка из деревни возит. Мамку Машка стесняется, а варенье вот любит.
– Ну тогда отдыхать! И ужинать. Правда, у меня тут скромненько, прости, гостей не ждал.
– Тогда, может…
– Никаких может, – замахал руками Константин Андреевич. – Я за тебя отвечаю и голодной не отпущу. Да и темнеет уже, куда ты пойдешь?
На кухне тесно. Стол, два стула, плита и холодильник «ЗИЛ» занимают почти все пространство, но мне здесь уютно.
– На, порежь вот, – Константин Андреевич достал из холодильника полбуханки серого хлеба, брикет масла, кусок розовой «Докторской» колбасы и плоскую баночку. – Рижские шпроты, конечно, я вообще больше красную рыбу люблю, но будем довольствоваться малым…
Будем. В животе заурчало. Как-то некстати вспомнилось, что я не обедала, а завтрак был давным-давно, в самом начале дня.
Последней на столе оказалась бутылка вина и два широких бокала.
– Киндзмараули, – провозгласил Константин Андреевич. – А хрусталь чешский, подарок поклонников. Слушай.
Он легонько щелкнул ногтем по краю, выбивая тонкий, удивительно чистый звук. Звук мне понравился, а бокалы – нет, слишком уж нарядные, блестящие, отливающие льдистым светом. Страшно такие в руки брать, а вдруг да разобью?
– Ты садись, Берта, не стесняйся, – Константин Андреевич, наполнив бокалы вином, подвинул один ко мне. – Слушай, а почему тебя все Баськой называют?
– Не знаю, – мне неудобно есть, когда он так смотрит, и хочется побыстрее уйти, но как сделать, чтобы не обидеть? – Меня с детства так… тетка, а потом в детдоме. И тут тоже. Наверное, судьба.
– Веришь в судьбу? – Он снова накрыл руку ладонью.
– Не знаю.
Его прикосновения вызывают странные чувства, нельзя сказать, что они неприятны, скорее уж непривычны. Сухие горячие пальцы, нечаянно скользнувшие по запястью, будто пометившие, хочется тайком стереть эту метку, но неудобно – Константин Андреевич увидит и обидится.
– Ну же, Берта, пей, – он подвигает бокал, внутри которого все оттенки багрянца. Пробую осторожно. На виноградный сок похоже, и запах тоже виноградный. Пурпурный запах. Мне нравится. На языке остается терпкая сладость, которую заедаю кусочком хлеба.
– Нет, Берта, вино так не пьют. Вот во Франции его сыром закусывают… с плесенью, – Константин Андреевич одним глотком осушил бокал и скривился. – Кислятина. Во Франции вина другие, совершенно другие.
– Какие?
– О… – Он помотал бокалом, едва не расплескав содержимое. – Французские вина – это нечто особое… словами и не описать. Париж, вечер, легкие сумерки в узких улочках, как черно-белая пленка. Парижане, парижанки, неторопливо прогуливающиеся по Монмартру… крохотные кафе… нет, Берта, об этом нельзя рассказывать, это видеть надо. И ты увидишь, я обещаю.
От вина кружится голова, или это не вино, а что-то другое?
– Бася, Баська… пожалуй, тебе идет. Мягкое имя, а Берта – жесткое. У женщин не должно быть жестких имен, это отпугивает. Ты пей, пей… и бутербродик возьми.
Пью. Ем хлеб и колбасу, жирную и тоже сладковатую, отдающую виноградно-терпким привкусом.
– Константин Андреевич… – запинаюсь, о чем-то ведь хотела спросить, а о чем? Забыла.
– Просто Константин. Костя. Ну-ка повтори.
Послушно повторяю:
– Костя.
Девушка лежала ничком. Раскинутые крыльями руки, сквозь пальцы пробивается низкая прибрежная травка, на запястьях вычерчивают узоры зеленые плети вьюнка, и бело-розовые цветы звездами выделяются на загоревшей коже. Как и черная спираль татуировки, обнимающей левое плечо, уходящей вниз, на лопатку, и капельками туши обрывающейся на позвоночнике. А лица не видно, лицо под водой, уткнулось в желто-бурый песок, прикрывшись волосами и водорослями.
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день, – пробормотал Венька. – Ну что, скажешь, ни при чем пансионат? Это ж не деревенская! У какой деревенской такое художество на теле найдешь?
Венька оказался прав. Убитую звали Дарьей Константиновной Омельской. Двадцати трех лет от роду, замужем, детей нет.
– Да не хотела она детей. – Супруга Дарьи Константиновны отыскать удалось без труда, был он высокий, здоровый и виду совершенно бандитского. – Я ей давно говорил, роди и наплюй на все.
Он горестно вздохнул, закрыл ручищами лицо и, пробормотав нечто невнятное, поднялся. Потом, правда, сел на место:
– Извините… мы ж с нею давно… в браке состоим. Она… никогда б не думал, что решится. Говорила же, давай уедем, а я решил, что блажит.
– Юрий Михайлович, – Венька старательно пытался быть участливым, но выходило плохо, потому как он злился. Ну, оно и понятно: с первым трупом не разобрались, нате вам второй. Ну ладно, партнершу по бизнесу, но клиентку-то зачем убивать? Мысли были грустными и тяжелыми, как мокрый песок, и такими же липучими.
– Юрий Михайлович, пожалуйста, расскажите, когда вы приехали?
– Ну так давно уже. Недели с две… Дашка-то, она ж художница, и вся такая, прям сил никаких не хватает, мамка-то моя когда еще сказала, что намучаюсь с нею. А я любил. Вы не думайте, будут говорить, что из-за квартиры, что она – москвичка, а я так, сбоку припека. Любил ее, всегда любил.
Он говорил путано, сбиваясь, перемежая речь вздохами и полузадавленными, совершенно не идущими к мясистой физиономии и переломанному бандитскому носу всхлипами. И горе его казалось до того искренним и глубоким, что Семен испытал приступ нехарактерной для него стыдливости, выходило, будто он подглядывает за человеком.
Венька тоже глаза отвел, уставился на фикус и немытый стакан с коричневым ссохшимся пакетиком заварки на дне.
Ознакомительная версия.