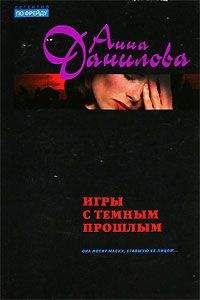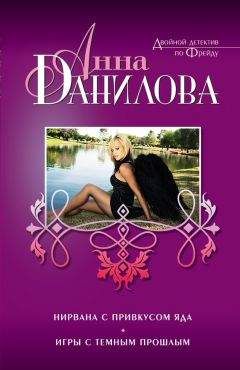Ознакомительная версия.
Была уже ночь, когда он поднялся к себе домой, вышел из лифта и увидел стоящую между этажами девчонку, которую хотел бы видеть меньше всего. Белая, с узором по подолу шубка, белый роскошный берет, красные замшевые ботинки, красные перчатки, белая с красным сумочка. И благоухает, как тропический цветок. А лицо совсем детское, осунувшееся, бледное, испуганное, словно она и сама уже не рада своей любви, своей страсти, своему отчаянию…
– А, это ты? Ну, заходи, замерзла, наверное, совсем…
Он взял ее за руку и притянул к себе. Подумал, как же ей больно от его невнимания, нелюбви, нестрасти.
– Ну-ну, только без слез, нельзя же так…
Она уткнулась горячим лобиком в его ладонь, и тело ее задергалось: она плакала.
– Пойдем, сейчас выпьем чего-нибудь… Тебе мама разрешает пить водку? Или вино?
Но она ничего не ответила, схватилась за его локоть и повисла на нем.
– Успокойся, я же пришел…
Он открыл дверь и, подталкивая ее в спину, позволил ей перешагнуть порог его холостяцкой норы, утопающей в коврах. Ему не было перед ней стыдно за разбросанные то тут, то там галстуки, рубашки, носки… Ему было только совестно за свою опустошенность и нежелание впускать ее в свою жизнь. А квартира, она что, это не жизнь, а всего лишь место, где можно посидеть в кресле и попить кофе или чай, водку или коньяк и принять ванну, чтобы согреться, чтобы зубы не стучали.
Он не хотел думать, что творится в ее душе, не хотел и не мог, потому что понимал: ей очень больно. Она замерла на пороге комнаты, он взял ее за руку, подвел к креслу и усадил, как куклу, как очень красивую куклу в красно-белых, как кровь на снегу, одеждах. Глаза ее темные блестели и от испуга перед собственным поведением, и от любви к нему, недостойному, и от жаркой комнаты…
– У меня тут не прибрано.
Она продолжала молчать.
Он каким-то порывистым движением сорвал с себя плащ и опустился перед ней на пол, сел боком к ней и положил ей голову на колени. На белый узорчатый и прохладный мех.
– Я же испорчу тебе жизнь, понимаешь? – Он зарылся в мех лицом. – Ты красивая, очень красивая, до невозможности, понимаешь? Но мне сейчас так же тяжело, как и тебе… Не знаю, как тебе это объяснить… Я сильно обидел ту, без которой не могу прожить и дня. Ее нет уже несколько дней, она исчезла, ушла, быть может, с ней что-то случилось… Я обманул ее, причинил ей боль… Ты еще очень молода и не знаешь, что есть такие вещи, которые исправить невозможно. Рана на теле затягивается, а на душе – нет. Я знаю, чего ты хочешь, но ведь утром, когда мы расстанемся, тебе будет еще больнее… Поэтому я постараюсь тебя согреть алкоголем, иначе ты просто заболеешь, я же не знаю, сколько часов ты провела на лестнице, а сейчас на улице собачий холод, а потом отвезу домой. Ты поняла меня?
Девушка подняла на него глаза, и он понял, что она его не слышит и не видит, что она находится в том полупьяном состоянии, когда человек не отвечает за свои поступки и не отдает себе отчета в том, что происходит. Эта девочка, Анжелика или Вероника, сидела, наверное так долго на лестнице, что каждая клеточка ее нежного тела, каждый волосок, каждая ворсинка ее шубки покрылись голубоватой изморозью…
Он налил в стакан коньяку, плеснул туда мятного ликеру, бросил ложку сахарного песку, сунул, примяв пальцем и раздавив, дольку лимона и поставил все это в микроволновку: разогреть… Придумал этот коктейль, глядя на покрасневший кончик носа своей гостьи, влюбленной в него до потери памяти, до потери всякого стыда…
А через полчаса уже вез ее, пьяненькую, теплую и взмокшую, домой, к маме… По дороге спрашивал, где она живет, и она отвечала тихо, постанывая и покачиваясь, как будто на каждой кочке, на каждом повороте машины испытывала сладкую судорогу…
Машина неслась по убеленной снегом Москве, девочка-кукла сидела по правую руку от него, и на лице ее, блаженном, онемевшем, вспыхивали пятна света – отражения светящихся рекламных щитов, витрин магазинов, фонарей.
– Я провожу тебя до самой двери, – заявил он, помогая ей выйти из машины возле дома на Красной Пресне. Так вот где, оказывается, мы живем?! И кто у тебя, интересно, родители и почему позволяют дочке вот так запросто гулять по ночам и искать встреч со взрослым мужиком? Какие-нибудь артисты, которым наплевать на все, кроме своих амбиций и гастролей! Хотя почему именно артисты?
– Не надо, – выдавила она из себя.
– А я уж думал, что ты немая. Ни слова не сказала… Я даже не знаю, как тебя зовут…
– Я же в письмах вам писала: Вероника. – Она с трудом сглотнула, прокашлялась.
– Ты не ходи больше ко мне, не нужно. От греха подальше, поняла?
Она кивнула головой. Чаплин зачерпнул ладонью пригоршню чистого, только что выпавшего снега и растер им свое лицо. Хотя надо было бы умыть снегом барышню.
– Приди в себя, а? Обещаешь мне?
– Поцелуйте меня, – в ее голосе послышались истеричные нотки. – Я не приду… Я умру…
– Дура! – заорал он и замахнулся на нее. – Только этого еще не хватало! Умрешь, говоришь?
Она кивнула головой и отвернулась.
Вот такая дура перережет себе вены, а ты потом всю жизнь мучайся угрызениями совести…
– Садись в машину. Садись, я тебе говорю!
Его и самого уже заколотило.
– Садись, говорю, поедем!
– Куда? – Лицо ее прояснилось, глаза расширились. – Куда, Игорь?
– Сейчас сама увидишь.
Она села в машину, и они поехали. Он вез ее в морг. Другого в этот ночной час придумать не мог. Помнил, как однажды ездил туда за телом одной пожилой женщины – матери друга, уехавшего на соревнования за границу и не имевшего возможности приехать на похороны. Он вспомнил даже запах, которым сопровождалось это тяжелое действо…
Остановились возле освещенного крыльца двухэтажного дома, Игорь почти выдернул девчонку из машины, поставил на снег и, подхватив под мышки, встряхнул.
– Пойдем, у меня тут дело одно, сама увидишь…
Она нахмурила свои соболиные брови, потянула носом, зверек нахохлившийся. Как же много в ней было детского, несмотря на женский призывный наряд, боевую раскраску!
Он распахнул дверь и, схватив ее больно за руку, потянул за собой. В коридоре столкнулся с заспанной теткой в белом халате.
– Мы за родственницей приехали… нам сказали, что она здесь… На опознание…
Тетка застыла в ступоре. Не могла знать, что это жестокая игра, направленная на отрезвление отроковицы. Дурочки.
Игорь же, отпустив свою жертву, отвел тетку в сторону и в двух словах объяснил суть: не допустить суицида, испугать так, чтобы неповадно было… Она сразу поняла и прониклась к нему, сующему ей в ладонь хрустящую бумажку, уважением.
– Пойдемте…
И повела в свое царство мертвых, в полумрак растерзанных ледяных тел…
Вероника выбежала на свежий воздух, в синюю ночь, в легкий снегопад и остановилась, подставив лицо мягким белым хлопьям. Ее трясло.
– Вы… Вы нарочно…
– А ты как думала? Хочешь лежать там же куском холодного вонючего мяса?
Он видел ее спину, прямую, молодую, и ему хотелось обнять ее, приласкать, успокоить. Но она же, дура, не так поймет, еще раздеваться начнет прямо возле морга.
И вдруг она повернулась и кинулась к нему, обняла, прижала к себе и замерла, прощалась…
– Вот и хорошо. Найди себе мальчика и пудри ему мозги… А меня забудь, я женат, у меня трое детей…
Он поцеловал ее в меховой берет, потом, подняв пальцем за подбородок ее розовое, мокрое от слез лицо, лизнул соленый нос:
– Все, поехали… Думаю, ты все поняла, ты же умная девочка… Анжелика… мать твою, Вероника…
На этот раз Оля впустила его без лишних слов, обрадовалась его приходу, распахнула дверь так, что туда могло войти сразу несколько Чаплиных. Ей было все равно, в каком он находился состоянии, орал бы на нее прямо с порога или бросился бы целовать, главное, он принес в этот мертвый дом саму жизнь.
– Послушай, она могла влипнуть в какую-нибудь историю, угодить в лапы маньяка, зверя, ее могли задушить, застрелить, а мы с тобой ничего не делаем, ничего не предпринимаем, бездействуем! Скажи мне, ты точно знаешь, что она куда-то отправилась, что она уехала, улетела? Почему ты так решила, если тебе, как ты говоришь, ничего не известно? Или ты что-то скрываешь от меня? Если так – разорву на куски, поняла? Такими вещами не шутят!
– Нет ее рюкзака, куртки, документов, – нервно кивая головой в такт своим словам, отчитывалась Ольга. Она стягивала у самого горла ворот халата и дрожала всем телом.
– Чего дрожишь? Боишься? То-то же!
Чаплин схватил ее руку, стягивающую ворот, сжал и притянул Олю к себе, поцеловал в теплую сонную щеку.
– А ты как думала? Что я отстану? Ты теперь мне как мать родная. Где Машка, вот скажи мне?
– Не знаю. Я уже и сама начинаю волноваться. Столько дней прошло, а от нее ни весточки… Борща хочешь?
– Спрашиваешь… Твоим борщом возле Кремля пахнет. А уж в подъезде какой аромат – и говорить нечего. Я измаялся весь, видишь, какой неприбранный хожу, неухоженный и никому не нужный, голодный, наконец.
Ознакомительная версия.