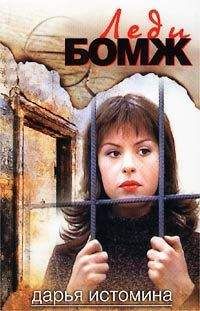Я переложила кое-какую мелочевку из сумки в пластиковый пакет с мордой патриотичного Газманова на фоне золотых куполов, нагрузила сумку камнями и зашвырнула ее в озеро. По этому коричневому дерьму здесь вольные сразу определяли, что сударыня — только что с острова. Могли и прицепиться. Те же менты на вокзале. И устроить мне что-нибудь наподобие каптерочного Бубенцова. Пока я без паспорта, я кто? А паспорт мне должны выдать только далеко отсюда.
Солнце наконец ударило сквозь кроны сосен, озеро вмиг заголубело, чайки превратились в белоснежные хлопья в перламутровых небесах, и я поняла, что дико хочу жрать, лопать, трескать, грызть и высасывать!
К концу срока меня стало одолевать совершенно дикое желание — я хотела пива. Не вонючего самогона, который втихаря гнали у нас в пищеблоке, не политуры из мебельного цеха, от которой не отказывались матерые долгосрочницы, и даже не нормальной водки, что иногда приносили охранницы, а именно пива — такого, что обожал дедуля и каковым отпаивал меня лет в двенадцать, когда понял, что моя скелетина никак не решается нарастить плоти. Горьковатого, соломенно-рыжего, холодного, в запотевшем тонком стакане. И чтобы была воблочка с твердыми брусочками соленой икорки, вкусной хребтинкой, лупастая.
Что и свершилось! Правда, в вокзальном буфете стеклянных стаканов не оказалось — были бумажные стаканчики. Но пиво было классное, не «жигули», но чешский «Будвайзер». Вместо воблы я обзавелась хвостом копченой, скумбрии. Взяла еще горячую сардельку с горчицей. Вокзал я видела впервые, меня с прочими привезли в «Столыпине» и разгружали на дальних путях, а потом, с овчарками, прогнали на пристань. Но здесь было по ранности еще безлюдно, довольно чистенько, а буфетик был забит импортом, который докатился и досюда.
В буфете шуровал пацаненок, у которого я вызвала явное любопытство. Но прикид у меня был приличный, к тому же я прикупила и зажигалку, и пачку дорогого «Ротманса», что свидетельствовало о моей высокой покупательной способности. И он явно раздумывал, куплю ли я еще чего или нет. Я тоже прикидывала, сколько у меня осталось, после того как я, как нормальная, взяла купейный билет в кассе. В комендатуру, где могли выписать бесплатный литер, и соваться не думала.
Над буфетом висел портрет Ельцина — предвыборный плакат с призывом от девяносто шестого года. Его уже засидели мухи. С господином Ельциным наши пути разошлись как раз в девяносто шестом. Или девяносто пятом? В общем, он пошел на новый срок в президенты, а я — на свой первый в колонию.
«Кин сав!», как говорят японцы, «Йедем дас зайн!», как говорят германцы, или «Каждому свое!», как сказала мне судья Маргарита Федоровна Щеколдина, когда я, ничегошеньки не понимая, сидела в клетке в нашем горсуде и на меня с любопытством пялились полгорода, сбежавшиеся на экзотическое зрелище.
Пора было производить инвентаризацию. Я посасывала пивко и прикидывала. На данный момент мы имели не то чтобы невинную, но так и не сумевшую накопить хотя бы приличный секс-опыт незамужнюю девицу Лизавету Юрьевну Басаргину, двадцати шести годов от роду (уже это свидетельствовало о надвигающейся старости!), бесправную, безработную, без определенного места жительства, с трудом соображавшую — куда крестьянину податься?
То есть, конечно, подаваться мне надо было на родину. Только что там меня ждет, а главное, кто?
Я вынула из пакета зеркальце и оглядела себя. Мордень была почти приличная, только бледные губы, потрескавшиеся и сухие, потому что помадой на острове я не пользовалась (не для кого!), а крем закончился Блекло-синие глаза под бесцветными бровками казались безразличными. Зеленеют они у меня почти до черноты, только когда я в психе — в стрессе, значит. Реснички ничего, мохнатенькие и длинные, но без подмазки их почти не видно. А вот скулы обозначились неожиданно резко и грубо, и стала ясна заметная раскосость моих глазенапов — это у меня от азиатских предков.
Дедуля мне как-то поведал, что где-то когда-то чуть ли не во времена питекантропов или нашествий Мамая на Москву кто-то приволок не то из Казани, не то из еще какой-то Шемахани в виде военной добычи не то шахиню, не то рабыню, она и наградила бесчисленное потомство Басаргиных крутыми скулами, свирепым темпераментом, а главное, гривами совершенно черной, вороненого отлива, волосни. Каковая в виде короткой щетинистой стрижки венчала и мою башку.
Хорошо еще, что шахиня не наградила меня генами кривоногости, которыми славятся кочевники, — с ходулями у меня более чем в порядке.
Вообще-то дед утверждал, что я являю собой образец той общности, которая в недавние времена именовалась «советский народ». То есть во мне намешано столько кровей, что я запросто могу считать своим любого бога — от Будды до Христа или Магомета. Католическая Дева Мария мне тоже не чужая со стороны польской прабабки, где-то там во временах маячили и какой-то грек, сосланный в Джамбул из Черноморья, и даже казаки, переселившиеся с Кубани на Алтай на сто лет раньше.
В общем, я на это дело плюнула и объявила как дедуле, так и всему свету, и прежде всего себе, что я — Лизавета (тоже мне имечко сыскал дед!) Басаргина по кличке «Дрына» была, есть и останусь на веки вечные волжанкой, то есть совершенно российской, русской девицей — и катитесь вы все ко всем чертям!
Мамулечку все это не волновало. Мамулечка к пяти моим годам подкинула меня деду и умотала в солнечную Моравию с очередным мужем, кажется, все-таки последним. Я его не помню. Вроде бы это был веселый и толстый грузин с роскошными усами, директор плодоовощного совхоза под Гори, проходивший стажировку в институте у деда. Пару раз в год через Москву к нам на Волгу его люди привозили посылки из Грузии: вино в бочонках, чурчхелы, гранаты и потрясающее варенье из незрелых грецких орехов и лепестков роз. С посылками мамулечка передавала писулечки — в них мне рекомендовалось чистить зубы два раза в день, учиться на «отлично» и слушаться дедушку.
Кто был моим папулечкой, я так до конца и не выяснила. По одной из версий — военный моряк с атомной подлодки, который вроде бы служил на Чукотке и познакомился с мамулечкой в военном санатории в Алуште, будучи в отпуске. В первом классе я рисовала его рядом с чумом и моржами, с большим пистолетом в руках. По моему разумению, таким образом он подводно стрелял моржей и китов. Возможно, мать ждала более удобного момента для объяснений. Словом, когда я созрею. За одно я ей была благодарна. Несмотря на свои бесконечные замужества, она сохранила девичью фамилию, каковой наградила меня. Иначе я бы свободно могла быть какой-нибудь Алибабаевой или Махарадзе.
В девяносто первом все накрылось — и вино в бочонках, и писулечки, и варенье из лепестков роз. Грузия стала заграницей.
В общем, дед для меня был всем — и мамкой, и нянькой, и кормилицей. Муштровал он меня свирепо, вовсе не как девицу, а как пацана. Видно, ему не хватало не внучки, а внука. Так что к четырнадцати годам, тощая, как глиста, но мускулистая, я запросто переплывала Волгу в самом широком месте, там, где она. впадает в водохранилище, наматывала на стадионе при школе километры (я предпочитала длинные дистанции, а не спринт), пробовала толкать ядро, но потом остановилась на волейболе, лупила дичь на пролете из любого из дедовых дробовиков и бокфлинтов из его коллекции и даже как-то завалила под Тверью кабанчика, дралась всерьез с пацанами из слободы, которые исконно враждовали с «институтскими», из НИИ, и не до первой кровянки, а так, чтобы улепетывали. Не раз получала и сама, но дед к моим фингалам относился с одобрением. Освоила его трофейный мотоцикл с карданной передачей, «бээмвэ» образца сорок пятого года, и действительный член академии сельхознаук, руководитель самой мощной селекционной структуры по пасленовым культурам, к которым относилась и картошка, даже не догадывался, что в одиночестве я раздевалась, в тоске разглядывала острые кукиши на плоской грудке и с ужасом думала, что я на веки вечные останусь плоской и тощей и у меня никогда не отрастет ничего приличного.
Но ничего — все отросло, что и положено, в некоторых местах буйно заколосилось и закурчавилось, но то, что я не мальчик, дед понял только в тот день, когда на меня обрушились первые регулы, и он, перепугавшись до икоты, вызвал «скорую» из города, спасатъ меня от неведомого заболевания, и потом женщины из его института тихо ржали над дедом и пересказывали этот анекдот городским.
Иннокентий Панкратович Басаргин был картофельным гением, выводил и районировал сорта в основном для средней России, много потерпел еще молодым во времена борьбы с космополитизмом, в раз-рад коего входило и учение монаха Менделя, и в те же годы, когда гены объявлялись извращением буржуазной науки и даже думать о них было запрещено, втихую, на должности старшего лаборанта, вышибленный отовсюду и только по случайности не посаженный, колдовал над своей картошкой…