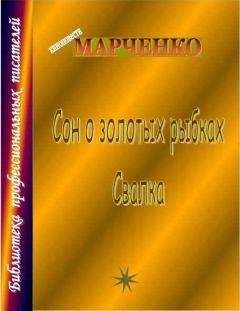Ознакомительная версия.
Или их занесло этим подозрительно голубым снегом?
Вот здесь, по правую руку от ворот, он стоял, то есть сидел на карачках, этот укроиндонезиец, благодаря которому я и обзавелся крисом. Дьявольской красоты ритуальным кинжалом, волнистое обоюдоострое лезвие и рукоять которого украшает птица-носорог, божественная птица племени ибанов2.
Обзавелся! С таким же успехом можно сказать, что это крис обзавелся мной. Поэтому я снова пришел на Староконный рынок, чтобы избавиться от него и от его власти надо мной. Даже мой лепший кореш Глеб Шорх по прозвищу Мамай, маньяк по части холодного оружия, который непременно вошел бы со своим собранием в Книгу рекордов Гиннеса, если бы не побаивался другой книги – УК, то бишь Уголовного Кодекса; короче, даже Мамай побоялся принять в дар от меня этот дьявольски-божественный кинжал! Ну, ладно, не в дар – ножи, кинжалы и прочее колюще-режущее дарить нельзя, такая уж примета – но и за символическую пятерку он тоже не захотел держать в доме этого «спящего в ножнах». Тем более без ножен. Тем более что мне самому он достался назло примете, без денег, так уж получилось.
– Крис это очень серьезная штука, Морик, – покачал головой Мамай, привычно попыхивая трубкой. – Ни про один вид холодного оружия нет специальной науки, а про крисы есть. Крисология называется. Все серьезно, дружище, и даже это определение – «спящий в ножнах». Крис – национальный символ Индонезии. Непосвященному, да ещё неиндонезийцу, лучше с такими символами не связываться. Слушай, Морик, а, может ты таки индо…?
– Сам ты индюк надутый! – перебил я и почему-то подумал про свою бывшую.
Но что же мне делать? Это же не кинжал, это бумеранг какой-то!
Я его выбрасывал – он возвращался, топил его в море – он всплывал (пусть и не без помощи «добрых» людей), оставлял в последней электричке на Аккерман aka Белгород-Днестровский, один черт – он снова возвращался ко мне первым же утренним поездом. В 7:40 он приедет, в 7:40 он приедет наш старый, наш добрый агицын паровоз!
Что старый – то да, а вот насчет «добрый»… Проверяя на остроту казацкую саблю-«домаху» – украшение его коллекции – Шорх-Мамай молча пускает дым в потолок. Я так же молча уставился в свой планшет. Всезнающий Гугл утверждает, что верховный ибанский бог Буронг, персонифицированный в носорогой птице – могущественный бог войны. Ибаны, эти субтильные охотники за головами верят, что не кто иной, как их воинственный Буронг и создал этот мир. Мир, в котором я никак не могу избавиться от кровожадного криса! Нет, с меня этой магии довольно! Новый, 2017-й год должен стать для меня годом свободы.
И вот, намучившись по самое не-хочу до последних чисел декабря, я спеленал кинжал, как ребенка, в пять слоев рушником и засунул в сумку. Закинул сумку на плечо, взял руки в ноги и, обвязавшись шарфом с цитатами из «Бардо Тодол», «Тибетской книги мертвых», направился на Староконку.
Этот белый шарф – ее свадебный подарок. На этом рушнике с сидящими на ветках павлинами (а, может, таки индюками? Поровну, и те, и другие на деревьях не шибко сидят) нас венчал отец Аристарх в Свято-Троицком храме у телевышки в сквере Космонавтов. Я первый тогда наступил рушниковой птице на хвост – мне и быть главой семьи. И был. Пока была семья.
А эту вот наплечную джинсовую сумку она мне пошила из моих любимых джинсов «Rifle» и подарила на 35-летие. «35 – ягодицами вилять» – так издевается с этой сумки и меня моя нынешняя, Катя.
А она – это Лира, бывшая.
Этот почти горностаевый с виду, белый с черными «букашками», шарф она вязала полтора года, пока мы встречались. Буквально после каждого нашего свидания Лира добавляла по букве-другой, старательно «срисовывая» все эти мудреные тибетские загогулины из оригинального текста на сайте www.unexploredcity.com. Они такие мелкие, эти тибетские буковки, что никакой далай-лама, даже самый прозорливый, не прочитает. Издали может показаться, что это орнамент такой. Одним словом, китайская грамота. Китайская, потому что Тибет-то тоже оккупирован.
Не то, чтобы сама Лирка в ней разбиралась, в этой мудреной грамоте, просто она вбила себе в голову, что мы были в прошлой жизни парой лебедей. Такая вот лебединая верность unexplored.
Лирка-Лирка… Заставила меня всю свадьбу проходить в этом теплющем, как лебяжий пух, шарфе. И это в августе-месяце! Чисто Остап Бендер в шарфике, мне только его фирменной фуражки не хватало.
Зато эта ее-моя перешитая из джинсов сумка однажды уже спасла мне жизнь. Здесь же, на Староконном. Если бы не она, этот жуткий кинжал в виде птицы-носорога был бы уже у меня в ребрах – вот на этом самом месте. Я имею в виду: территориально.
В каком-то смысле, можно сказать, что это крис и привел меня сюда снова. Недаром «магия» и «магнит» созвучны: магия магию притягивает.
Налетай-не скупись, покупай живопИсь!
И вот на этом самом «крисовском» месте, справа от открытых ворот на Староконку, я вместо того чтобы искать глазами того хитрого азиата или хотя бы ножны, застываю перед «Айвазовским» на продажу.
«Девятый вал». Пожалуй, самая знаменитая и загадочная картина старика Айвазяна. Стоит себе впритык к железобетонной стене и в ус не дует, хотя еще немного и прибиваемый ветром к холсту голубой снег перевалит через этот вал.
Но даже под снегом, наверное, каждый бы узнал этот «вал», где группка горе-мореходов, потеряв свой корабль, пытается выжить среди обезумевших волн. Напрасно пытается: «Певец Черного моря», как справедливо называли Айвазовского, обрек потерпевших кораблекрушение на неудачу, на смерть. Маринист – не гуманист. Не каждый портретист – человеколюбец, но почти каждый маринист плевать хотел на людей с самой высокой волны своего любимого водоема.
Тем более такой, как Айвазян-Айвазовский, оставивший после себя тысячи марин, и каждая – как признание в любви к Морю: близкому, далекому, ласковому, спокойному, бескрайнему, беспокойному, бесовскому, бурному, бушующему, ревущему, еще не проснувшемуся, но уже зовущему предрассветному, вечернему, убаюкивающему, ночному, где только луна свидетель…, а люди – что люди? Нет, у «оригинального» Айвазовского стихия не дает морякам ни единого шанса. Потому-то и название такое – «Девятый вал». Не «Шестеро отважных» или, там, «Надежда не умирает». Или хотя бы просто, без надежд и намеков – «Кораблекрушение». Нет – чертов «9-й вал».
Здесь же – на этой прислоненной к стене уменьшенной копии (надо сказать, весьма качественной копии) знаменитой картины – неизвестный художник, как будто ничего не изменив, кроме размера, умудрился изобразить… спасение, победу людей над стихией!
Наклонившись и придерживая рукой крис в сумке, чтоб, не дай бог, не выпал, я легким движением свободной руки смахнул снег с холста.
И в тот же миг, как был на полусогнутых, отскочил на добрых два метра назад – мне послышалось: что-то там в картине булькнуло! Не что-то, а кто-то так явственно булькнул-гулькнул! Короче, выразил свое недовольство. Эй, морячки, ша! Ша, Айвазовский-Айвазян или, как там тебя, на самом деле!
Выпрямившись, я постоял с полминутки, держа дистанцию и ухо востро и хвост трубой, а потом таки взял себя в руки и подумал: нет, мне таки послышалось, снег хрустнул или, может, это резкий порыв ветра стуканул по моей барабанной перепонке.
Как зачарованный, я смотрел на это полотно, сравнивая с «отпечатком» оригинала в памяти – тот же девятый вал, один в один, те же светящиеся краски, те же полупрозрачные волны, которые аж хлещут через раму, та же шестерка в восточных одеждах на сломанной мачте-шпринтоле – но эти-то сильнее шторма!
Тут не стоит вопрос: «Шестеро против Девятого – чья возьмет?». «Ихняя» возьмет. Эти моряки, в отличие от «айвазовских», таки доберутся до земли. Шторм успокоится, и их подберет проплывающая невдалеке шхуна, или, может быть, их спасут дельфины или русалка, как в клипе Sade «No Ordinary Love», не знаю, как именно, но они спасутся. Сто пудов, спасутся.
Это бросалось в глаза с первого взгляда на холст. Как это объяснить? Не знаю. Колдовство! Магия Рождества, что ли.
Рассмотрев в подробностях «колдовскую» марину, я волей-неволей обратил внимание на рамку. Добротную, нужно сказать, рамку. Дерево, а не дерьмопластик. Когда-то, в «прошлой жизни», я здесь же, на барахолке, купил за бесценок мазню на морскую тему в подобной деревянной раме и вручил моей бывшей, и она была очень счастлива. И я был счастлив. Наконец-то буду держать себя в рамках. «Вот закончу твой портрет, – грезила наяву Лирка, – оформим его в багет, в рамочку, и будешь ты у нас Мореслав Эльфир в рамке».
Та мазня – я вспомнил – называлась «Похищение Европы». Так же, как облюбованный молодоженами и фотографами бычий памятник на 9-й станции Большого Фонтана.
Ознакомительная версия.