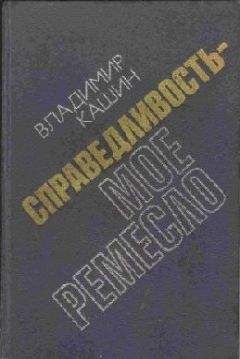Словно пал на глаза Ивана Платоновича туман, а когда рассеялся, увидел себя старый юрисконсульт молодым человеком, вчерашним «реалистом», на фуражке которого вместо кокарды появился вырезанный из жести черно-белый знак — череп и кости, а на поясе — самодельная бомба. Увидел и весь анархистский отряд во главе с кудрявым матросом — «полоумным Христом», речи которого состояли из одной-двух фраз о боге и о революции и неизменно сопровождались стрельбой из маузера.
А потом молодой Козуб передумал и пошел работать в ревком, чтобы вылавливать своих бывших друзей.
Вспоминались ему ночные бои, неожиданные налеты, берега Ворсклы и шепот ночного леса. И Ярмарковая площадь, и на полпути до станции — выселок Колония, где жила Марийка, дочь телеграфиста Триверстова.
Эх, Марийка, Марийка! Из далеких туманов являешься ты, чтобы напомнить о себе, о молодости и о любви, о том неповторимом времени. С каждым годом, с каждым десятилетием все больше забываются черты твоего лица, тает блеск твоих глаз, все глуше слышится твой голос, и ты становишься не просто прекрасной девушкой, не просто первой любовью, а символом молодости.
В памяти Козуба встают нарядные деревянные домики, построенные железнодорожной компанией на крутом берегу Ворсклы, прямые дорожки между ними, посыпанные чистым речным песком и окаймленные выбеленными камешками. Жили в этой дачной колонии конечно же не стрелочники и не паровозные кочегары, а железнодорожные чины, долго служившие компании и вышедшие на пенсию. И, кроме них, лишь несколько инвалидов вроде Марийкиного отца, который потерял обе ноги, спасая от аварии поезд.
Попав в водоворот нового времени, молодой Козуб не забывал также о себе. В глубине души был уверен, что революция совершена и для него, чтобы и он, сын сельского фельдшера, мог сполна познать радости жизни. Революция началась в пору его возмужания, и он чуть не плакал от счастья, что все произошло так своевременно. Это чувство не покидало его ни тогда, когда он был с анархистами, ни когда от них сбежал.
И любовь красавицы Марийки тоже была для сына фельдшера одним из подарков судьбы.
Почти каждую ночь бывал он у своей любимой. Бывшие, как он острил, «одночерепники» не могли простить ему предательства. Наголову разгромленные и превратившиеся в кучку бандитов, они боялись сунуться в местечко и грабили окрестные села и хутора. Ревкомовец Козуб хорошо знал, как опасно ему выезжать в Колонию.
Однажды бандиты застали его там. Окружили домик, выбили окна, ворвались в комнаты. Иван Козуб и Марийка спали. Один из налетчиков первым же выстрелом убил Марийку, а сам «полоумный Христос» с маузером на взводе приблизился к Козубу.
— Ну, предатель! Попался. Теперь мы с тобой поговорим! В бога и в революцию!
— Неужели и меня убьешь, Петр? — испуганно пролепетал Козуб.
— В бога и в революцию! Это уж точно! Но сперва ремни из тебя вырежу!
— Так дай же перед смертью хоть перекреститься, — взмолился Козуб и, перекрестившись левой рукой, правую незаметно сунул под подушку.
Один только миг — и он выхватил наган, ударил атамана огнем в лицо и, воспользовавшись минутным замешательством среди бандитов, выпрыгнул в окно. Во дворе вскочил на коня и, как был, голый, помчался наперегонки с пулями в темную ночь.
Эх, Марийка, Марийка! Из далеких туманов являешься ты, чтобы напомнить о себе, о молодости и о любви, о том неповторимом времени. Так короток был твой век, и в одно мгновенье поселилась ты с сердце Ивана Козуба, чтобы потом исчезнуть навеки…
А жизнь между тем не останавливалась, она била ключом, и молодые силы требовали выхода. У Ивана Козуба от нетерпения, от боязни упустить свой звездный час кружилась голова. Он торопился, он спешил. Успел и повоевать, и отличиться — одним из первых ворвался во врангелевские окопы.
Ну, а потом, в мирные дни, пошел бравый кавалерист Козуб служить в рабоче-крестьянскую милицию.
Клубятся туманы времени и то наплывают на события и людей, то рассеиваются. Не спится старому юрисконсульту — слишком много теней выплывает из глубин давности и толпится у его изголовья.
Валентин Суббота неосмотрительно сел в кабинете Коваля в манящее кожаное кресло и почувствовал себя неудобно. Кресло искушало прижаться плечами к мягкой спинке, расслабиться, и, сердясь на самого себя, молодой следователь напрягал мышцы, чтобы не утонуть в нем.
— Современное расследование, Валентин Николаевич, — начал Коваль, казавшийся Субботе высоко-высоко возвышающимся над ним, — ведется не только на основе вещественных доказательств. Преступники научились не оставлять следов. Да и по какой-нибудь потерянной преступником пуговице его далеко не всегда найдешь. Многие носят одинаковую модную одежду: если мини — то почти у всех мини, если узкий носок обуви, то опять-таки почти у всех. Вещественные доказательства надо искать не только для того, чтобы добиться признания. Признание, как известно, нельзя принимать на веру. Необходимы еще и другие доказательства, которые его подтвердят или опровергнут.
— Но без вещественных доказательств признания не добьешься. А оно — вершина следствия.
— Ничто не стоит на месте. Юриспруденция тоже. Раньше, добившись признания, следователь считал свое дело сделанным. А теперь надо еще доказать, что подозреваемый по каким-то причинам себя не оговорил. И поэтому не признание — вершина следствия, а доказанность! В этом именно и состоит гуманизм наших поисков истины. Все прочее — не более чем произвольные суждения.
— Ну что ж, Дмитрий Иванович, значит, ваша работа впереди. Вскоре у вас будет признание Гущака, и, если доказательств для обвинительного заключения не хватит, их придется искать. Мы обязаны не только рассуждать, но и делать выводы.
— Но не с предвзятых обвинительных позиций, Валентин Николаевич. Только объективность — с самого начала. И в поступках, и в мыслях. И вера в человека, в то лучшее, что в нем есть.
— При таком прекраснодушии преступника не уличишь и не обнаружишь.
— Но до конца следствия мы не можем знать, кто преступник. Мы ищем. Ищем! Это надо хорошо понять и прочувствовать. Послушаем, что нам сейчас доложит Андрейко. Быть может, что-то и прояснится.
Коваль снял трубку.
Несколько минут спустя в комнату вошел Андрейко — невысокого роста, худощавый, с красивым лицом. Весь вид его, даже шрам через щеку (в детстве упал с яблони), свидетельствовал об энергичности лейтенанта, о его динамической натуре. По-военному подтянутый, в ладно сидящей на нем форме, лейтенант, несмотря на свои тридцать лет, выглядел бы юношей, если бы не напряженная сосредоточенность его пристального взгляда.
— Садитесь, — бросил Коваль. — Начнем оперативку.
Лейтенант Андрейко опустился на край стула, стоявшего у стены, пристроил на коленях темно-коричневую ледериновую папку и положил на нее руки.
— Посмотрим, что у нас есть, что известно и на что надо направить усилия, — с этими словами подполковник достал из ящика стола свою пресловутую схему.
— Схема, значит? — тихонько, как бы про себя, произнес Андрейко.
— Именно она, Остап Владимирович, схема, — строго заметил Коваль, услышав этот полушепот.
— Да я ничего, товарищ подполковник, — занял оборону лейтенант. — Я — за. Абсолютно. — Он улыбнулся, забыв, как обычно, о том, что, когда он улыбается, шрам придает его лицу не добродушное, а, наоборот, сердитое выражение. — Я и сам без схемы не могу.
— Докладывайте. Сперва об окружении Василия Гущака. Что выяснили?
— Пока ничего особенного. Учится хорошо. Дружит с парнем, который живет на бульваре Шевченко, — тоже студент, комсомолец, живет с матерью, характеристика положительная. У Василия Гущака во время службы в армии были дисциплинарные взыскания. Трижды за опоздание в казарму после увольнения в город. Один раз сидел на гауптвахте за самовольную отлучку, второй — за пререкания с командиром.
— Он такой, — вставил Суббота, — ершистый, колючий.
— В основном неприятности были из-за девушек. Влюбившись, ни с чем не считается.
— То-то и оно, — снова не выдержал Суббота. — Шерше ля фам, как говорят французы, то есть во всем ищи женщину. Нужны были деньги для разгульной жизни. — Следователь не заметил, как при этих его словах Коваль поморщился. — Вполне возможная побудительная причина для преступления.
— Его девушка не производит такого впечатления, Валентин Николаевич, — укоризненно заметил Коваль. — Наоборот.
— Имеете в виду эту… как ее… Лесю? Я не о ней говорю. У него, кроме Леси, наверно, не одна еще была…
— Пока среди его окружения других девушек не обнаружено. Не так ли, Остап Владимирович? — обратился Коваль к Андрейко.
— Абсолютно. Но будем стараться.
— Остап Владимирович, учтите: необходимо в первую очередь глубоко и досконально изучить окружение Василия Гущака. Безотлагательно. Сроки поджимают. Не возражаете, Валентин Николаевич? Хорошо.