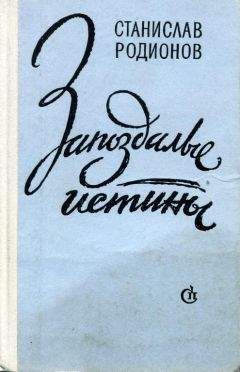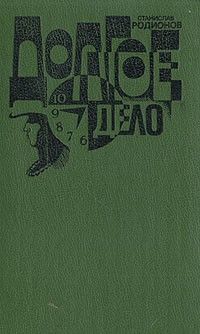- У тебя плохое настроение? - все-таки спросил он.
- Да? - опять изумилась Лида.
Это ее "да" имело много оттенков, но сейчас он не уловил ни одного. Видимо, настроение человека, даже близкого, точно не измерить. Да и нужно ли, не в этих ли изломах и перепадах таится женская прелесть и загадочность?..
Он пошел читать газеты. Но у его письменного стола была какая-то могучая способность засасывать в бумажные трясины. Уже через двадцать минут у Рябинина в руках оказалась пачка его записей о первых годах работы в прокуратуре. Вот как, он, оказывается, тоже вел что-то вроде дневника...
- Ой!
- Что случилось? - крикнул он в сторону кухни.
- Руку порезала!
- Сильно?
- Да нет, пустяк...
Рябинин перенесся в прошлое. Запись о какой-то краже в пригороде, которую он расследовал, видимо, в первый год работы. Ничего не помнит: ни места, ни преступления... Нет, помнит. Вор оставил следы на снегу, на крепком насте, но легкая пороша замела их. Ничего не помнит, а как руками выгребал эту порошу из следов - помнит.
- Аах!
- Да что с тобой, Лидок? - опять крикнул он на всю квартиру.
- Утюгом локоть обожгла!
- Ты поосторожней!
Рябинин еще полистал желтенькую пачку бумаг и положил ее в одну из кип, ждущих своего, неизвестно какого, часа. Пора было браться за работу, намеченную на сегодняшний вечер. Что там? А там другая пачка, свежая, растущая ежедневно на сантиметр. Он начал с журнала, раскрыл на закладке и подумал, что раскрывает его в этом месте уже третий раз. Статья "Умственная выносливость и ее физиологические корреляты". Так, одна математика. Вот почему журнал раскрывается в третий раз...
И промелькнуло, исчезая...
...Если есть в мозгу какие-то центры любви и ненависти, то они наверняка расположены рядом. Да не один ли это центр?..
Он поднял голову - пронеслась какая-то мысль, не имеющая отношения к этим самым коррелятам. Он не стал бежать ей вдогонку, наконец-то погрузившись в дебри статьи.
Через час он потерял строчку, ощутив странную пустоту. В комнате ничего не убыло, в комнате ничего не изменилось, только чуть потускнел дневной свет за окнами. И все-таки чего-то в ней не хватало. Лиды. Она даже не заглянула. Видимо, гладит.
На статью с записями ушел еще час. Рябинин удивленно смотрел на будильник: журнал, заметки, бумажки - и вечера нет. Он встал и пошел на кухню...
Лида сидела за столом, подперев щеки, и пусто смотрела в белесое, уже ночное июньское небо.
- Ты не гладишь?
- Нет.
- И не гладила? - спросил он, заметив на столе неубранную после ужина посуду.
- Нет.
- И ничего не делала?
- Ничего.
- Почему?
- Я никогда ничего не делаю.
- А яснее?
- Я женщина.
- Разве женщины ничего не делают?
- Нет.
- Но ты же работаешь...
- Женщина делает вид, что работает, учится, занимается домашним хозяйством, а сама думает о любви.
- У тебя в душе тоже белые ночи, - улыбнулся он. - Покажи-ка палец...
- Зачем?
- Который порезала...
- Я не порезалась.
- Как не порезалась?
Она не ответила, разглядывая небо, не залитое солнцем, не затянутое тучами, не закрытое облаками, не озолоченное луной, - она смотрела в это странное небо, бог весть кем и чем освещенное.
- И не обожглась?
- И не обожглась.
- Зачем же кричала?
- Разгадай, ты же следователь...
Он придвинулся, пытаясь своими очками пересечь ее убегающий взгляд, но только закрыл головой блеклый июньский свет, отчего Лидины глаза ушли в серую тень.
- Лида, у тебя что-нибудь случилось?
- Нет. А вот у тебя?
И з д н е в н и к а с л е д о в а т е л я. Иногда мне кажется, что самое страшное - не преступление. Не воровство, не хулиганство и даже не убийство. Страшнее их то, что преступник зреет на наших глазах, как невыполотый чертополох на грядке. Мы, люди, его слышим, видим, дышим одним воздухом... Знаем, что он может украсть или убить, и мало что делаем, чтобы этого не случилось.
До закрытия магазина осталось двадцать минут, а народ все толпился. Кто пришел купить колечко, кто примерить янтарную брошь, кто захотел полюбоваться бриллиантами, а кто забрел на огонек, вернее, на сияние витрины, где висел и мерцал огромный кристалл кварца.
Вера Михайловна опустилась на стул и начала переобуваться, благо за прилавком ног ее никому не видно.
- Дамочка, будьте любезны!
Полный лысый мужчина стоял у стекла и рассматривал драгоценности. Вера Михайловна - на одной ноге туфля, на второй босоножка - вежливо улыбнулась:
- Что вас интересует?
- Вот этот перстенек на кругленькую сумму. Я ведь их всю жизнь добывал на Севере. А жена не верит. Какие такие алмазы? Добывал-добывал, а она их и не видела...
Вера Михайловна здесь, в тишине, полюбила разговорчивых покупателей. Особенно интересных, откуда-нибудь приехавших, вот как этот дядечка с Севера.
- Теперь я пенс...
- Кто?
- Пенс, говорю, на пенсии, значит. Деньжат заработал, лежат втуне, процентами обрастают. А жена алмаза век не видела, хотя я их добывал. Отсюда и мыслишка купить ей бриллиантик, чтобы знала, на что наши с ней северные годы ушли.
- Покупайте, - согласилась Вера Михайловна.
Он вертел перстень, смотрел его на свет, прищуривался, приглядывался и шумно вздыхал.
- Откровенно говоря, я видел сырые алмазы, а в граненых-то не очень разбираюсь...
- Зачем в них разбираться? Вы оценивайте красоту.
- Вот я и оцениваю, - не совсем уверенно согласился покупатель.
Вера Михайловна представила... Не представила, а как-то допустила такую невероятную возможность... Нет, не возможность, а вообразила сон с открытыми глазами - ей дарят двенадцатитысячный бриллиант. Кто дарит? Ах, это не так уж и важно. Допустим, не северянин, а какой-нибудь южанин. "Не уезжай ты, мой голубчик..."
- Это не алмаз, - сказал вдруг покупатель.
- Это бриллиант.
- По-моему, это и не бриллиант, - повторил он с добродушной улыбкой.
- Что? - не поняла вдруг она.
- Ей-богу!
Вера Михайловна решительно взяла перстень:
- Если вещь не нравится, то ее лучше не покупать.
- Зря вы обижаетесь на пенса...
- Гражданин, у нас ведь государственный магазин, а не частная лавочка.
- И все-таки это не алмаз. Я на них собаку съел.
Он что, шутит? Лицо круглое, облитое здоровым румянцем ветров и морозов. Улыбается располагающе. Может быть, разыгрывает? Мол, двенадцать тысяч, а за что - за кварц?
- Мы только первого апреля продаем кварц за бриллианты, - пошутила и она.
- Да на кольце ни пробы нет, ни маркировки...
Вера Михайловна схватила перстень, поднесла к глазам и начала скользить взглядом по его полированным поверхностям. Чистый, гладкий, белый металл... Никаких букв и цифр не было.
- Что же это, по-вашему? - тихо спросила она въедливого покупателя.
- Только не алмаз...
- Людочка! - крикнула Вера Михайловна таким голосом, что прибежали и Людочка, и продавщица из отдела янтаря, и директор...
Они поочередно разглядывали перстень, а Вера Михайловна потерянно смотрела на дурацкого пенса, который заварил всю эту кашу.
- Стекляшка? - Людочка всплеснула руками.
- Перстень подменили.
Кто это сказал? Директор. Какие глупости, кто мог подменить...
- Кто подменил? - все-таки спросила она.
- Вам лучше знать, - отрезал директор.
Вере Михайловне стало вдруг жарко. Нет, это не ей жарко - это полыхнул жаром пол, и горячий поток воздуха, как от летней земли, пошел вверх, застилая человеческие лица. Она их видит, но сквозь этот жар, сквозь этот пар, отчего лица чуть колышутся и даже слезятся. Она почувствовала до какого-то едкого покалывания в груди, что сейчас произойдет еще более страшное. Вот сейчас... Острый глубокий удар пронзил левую половину груди, лопатку, руку и страшной болью растекся по телу. Это директор... Он чем-то ударил ее сзади. За перстень...
Превозмогая боль, Вера Михайловна вцепилась в прилавок и медленно осела на чьи-то руки. И уже на этих руках она слышала, как вызывали скорую помощь и милицию.
И з д н е в н и к а с л е д о в а т е л я. Удивляюсь вещам - тем самым, которые мы так любим покупать; которые мы бережем, ценим и сдуваем с них пыль. Вот моя лампа, которую Лида купила в комиссионном. Стройная, бронзовая колонка, увенчанная желтым шатром - абажуром. Говорят, ампир. Я люблю сидеть под ней - как под солнцем. Вот мой стол. Длинный, широкий, светлого дерева. Вроде бы ничего особенного, но я люблю его, потому что за ним столько сижено, столько писано и столько думано... Со столом и лампой прошла часть жизни, да и не малая. Они видели мое лицо таким, каким его никто не видел. Она слышали такие моя слова, которые я никому, кроме себя, не говорил. Они стали мне родными...
Но уйди я от них навсегда, заболей или умри - они не заплачут, не вскрикнут, не пошевелятся. Лампа даже не перегорит, и стол даже не рассохнется.
Инспектор с готовностью ответил на ее вопрос: