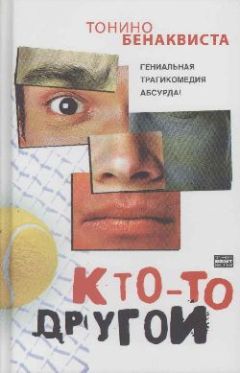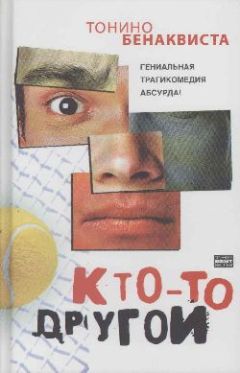Он отнял руки от лица, чтобы схватиться за ножки стола, но они соскользнули, липкие от крови, я ничего не мог сделать, когда он все же поднялся на ноги. Снаружи меня окликнул сосед. Захлебываясь глухим кашлем и слезами, с удавкой на шее, я не смог подняться с кровати.
Он все же ушел, натыкаясь на мебель. Я не видел этого, пристыв взглядом к тянущемуся за ним извилистому кровавому следу.
А потом я стал плакать, навзрыд, заливаясь слезами все больше и больше.
Не знаю, сколько это все продолжалось, но несколько веков спустя я увидел бледное лицо соседа снизу, осторожно заглядывающее в приоткрытую дверь. Он что-то говорил про шум, про кровь и про полицию. Я хотел ответить, но горло болело все сильнее, и это напомнило мне больницу, скрепки во рту и невозможность произнести ни слова. Я медленно покачал головой, показал пальцем на дверь, а потом тихонько прижал ладонь к щеке, давая понять, чтобы он шел спать.
В комнате все еще стояла удушающая атмосфера насилия, и, видимо, поняв, что в такой ситуации ему не стоит нарушать обретенный мной наконец покой, он бесшумно закрыл за собой дверь.
Я чуть было не ушел, не убрав кровищу. Стоя на коленях, я прошелся тряпкой по еще свежим пятнам. Мне просто представилось собственное возвращение домой и неприятное удивление, с которым я обнаружу свое жилище заляпанным запекшейся кровью. Взяв рюкзак и засунув туда кое-что из вещей, я вышел на улицу, в предрассветную прохладу, не зная еще, куда приведет меня мое полное отсутствие желания чего бы то ни было. Чего я хочу: мести, покоя, пойти по улице налево или направо? Не знаю, что-то я растерялся.
Ему надо было остаться. Какой же я все-таки идиот, что не подумал в свое время о протезе. Каждый раз после очередной встречи с ним жалею об этом. Хороший, старомодный крюк, при этом остро отточенный, — вот, что мне надо. Если подумать, сейчас такое приспособление пригодилось бы мне даже больше, чем рука.
Я скорее найду номер, если пойду в сторону площади Республики. На два-три дня, может, больше, но никак не меньше.
Джентльмену нужна моя шкура. Его раздражает моя память, полная свеженьких воспоминаний, моя ксерокопия «Опыта № 30», моя разговорчивость и мой слишком крепкий нос. Наверно, он иногда обо мне думает. Дорого бы я дал, чтобы узнать, каким он меня видит.
Горло напоминает о себе при каждом глотании. Но голос понемногу возвращается. Время от времени я пробую голосовые связки — от низких к высоким.
Вот влип так уж влип. Припекает со всех сторон. Может, эти ощущения и имел в виду Бриансон, когда говорил о человеке с серьезными ожогами?
Отель «Карро дю Тампль». Первый с горящей в такой час вывеской. Шесть утра, портье, наверно, спит. Оказывается, нет, вон он, я его вижу, среди корзин с круассанами.
Он подходит. Номер? Есть только один, с большой кроватью, я беру его и плачу за двое суток вперед. Когда подъем? Нет никакого подъема. После десяти тридцати завтрак не подают. Что ж, пусть так. Спасибо.
Номер шестьдесят два. Я принял горячий душ в полной темноте, чтобы не видеть в зеркале темный след вокруг шеи. Затылок еще болит. Кровать такая огромная, что я в ней совсем потерялся. Тут меня никому не найти.
* * *
Белый и красный сходятся в углу на зеленом сукне стола… Боюсь, не найти мне покоя, так они и будут вечно преследовать меня. Один и тот же сон, один и тот же удар. И нет в этом никакого символа, никакой тайны, никакой разгадки. Все обыденно до слез, и тем страшнее пробуждение.
Прежде чем одеться, я отважился взглянуть на себя в зеркало шкафа. Вид сзади, вид спереди. Впервые, с самой ампутации, я вижу себя совершенно голым. Физиономия малость опухла, после вчерашнего или позавчерашнего — не знаю. Я немного располнел. Может, это оптический обман, но правая рука как будто сжалась по сравнению с левой. Атрофия, все ясно. Если ничего не делать, скоро она вообще превратится в цыплячье крылышко. Шея — не синяя и не черная, а просто красная, с шелушащейся кожей, пылинки которой после прикосновения остаются на пальцах. Хорошо видно красную полосу от удавки. Синяки на плечах и на ляжках начинают желтеть. Все вместе напоминает Мондриана не самого лучшего пошиба… Бриансон с этим ничего не смог бы сделать. Тут нужен реставратор. Жан-Ив. Он пришел бы со своим чемоданчиком, склонился бы надо мной в своих перчатках, с лупой в руках, выявляя поврежденные волокна. Затем, лежа прямо на полу, где-нибудь в уголке, он часами бы подбирал точный оттенок и с ангельским терпением кончиком кисточки подправлял бы подпорченные участки. Он очень нравился мне, этот Жан-Ив, в круглых очечках, с маленькими усиками. Со временем он стал крупным специалистом по белому цвету, его приглашали направо и налево, по всей Европе, для восстановления основы полотен. До него я и не подозревал, сколько разнообразных оттенков белого существует между белым и белым цветом.
* * *
Около четырех, окончательно потеряв терпение, я позвонил Беатрис с предложением встретиться в «Палатино», если у нее есть что-то для меня. Она предложила мне зайти лучше к ней, и в конце концов я согласился. Перед тем как повесить трубку, она спросила, почему я колебался. «Да так», — ответил я.
Она живет в ином мире, на левом берегу, на улице Ренн, я туда никогда не суюсь.
— Что с вами?!
Она поднесла руку к моей шее, и я поднял воротник.
— Когда-нибудь вы и об этом расскажете. Вы сходили туда?
— Может, вы все-таки сначала войдете?..
Я ожидал увидеть крутой интерьер, светлый, с коврами, мебелью из «Икеи» и жалюзи. И вот я стою посреди комнаты с двумя телевизорами, включенным минителем, компьютером с зеленым экраном текстового редактора, стопками газет, заваленной книжками, облепленной газетными вырезками. Фотоколлажи, обложки глянцевых журналов, афиша выставки Кремонини с голыми детьми без лиц — все это приклеено скотчем прямо к стене. Стол, уставленный переполненными пепельницами, пицца в картонной коробке. Это не беспорядок, не безалаберность, нет, во всем этом ощущается стремительность, ненасытная жажда информации, желание показать, что вот он мир, вот она жизнь — здесь, повсюду.
— Вы просто вездесущи, — говорю я.
— Садитесь, где найдете место, погодите… сюда…
Краешек дивана, рядом с телефоном и автоответчиком. Она возвращается в комнату с двумя чашками и чайником, даже не спросив меня, хочу ли я чая, и усаживается у моих ног. Когда она наклоняется, чтобы налить чай в чашку, я вижу ее груди. Она протягивает мне блюдце, не отрывая глаз от валяющегося на полу обрывка газеты. Прямо бешеная какая-то, думаю я, на такой надо жениться как можно скорее.
— Школа изящных искусств — это детские игрушки! Работа для стажера. Я сказала, что пишу об их выпускниках, ставших знаменитыми художниками, в частности о Линнеле, в связи с выставкой в Бобуре… Мне круто повезло, я напала на старушку-секретаршу, представляете — тридцать лет среди всех этих бумажек, помесь курицы с компьютером, она просто обалдела от счастья, что у нее будут брать интервью.
— Ну и что она сказала про Линнеля?
— Ах-ах-ах, Линнель, малютка Ален, такой талантливый! А шутник какой, если бы вы только знали, что он тут устраивал! Все годы изощрялся в розыгрышах и всяких проделках, да с такой выдумкой, что дело чуть ли не до полиции доходило! Он, кажется, заставлял новичков…
— Это так важно? — перебил я.
— Да нет, просто забавно. Короче, он отучился там шесть лет, преподаватели ему спускали всё на свете, все его фокусы. Типичный студент — ни фига не делает, а в результате все знает. Это и раздражало, и подкупало, и обескураживало однокашников. Всех, кроме Морана, его неразлучного друга, более неприметного, более прилежного. «Приятный, но неразговорчивый», — сказала про него старушка. «У него были свои причуды, он увлекался всякой мелочью — миниатюры, каллиграфия, а вот академический рисунок его мало вдохновлял». Он был самым скромным из этой четверки.
Она специально оставила пробел, чтобы я заглотил наживку. Четверка… четверка… Братья Джеймс, Дальтоны. Хорошее число для гангстерской группы. Двое уже есть. Боюсь, что будет и три. Я знаю одного такого, большого мастера появляться там, где его не ждут. По возрасту и маниакальной одержимости он вполне мог бы оказаться третьим. Джентльмен. Мой постоянный соперник.
— Клод Ренар, — говорит она.
— Да?
— Оценщик-аукционист. Этот — совсем другое дело. Он проучился там всего три года. Сын Адриена Ренара, знаменитая фирма оценщиков, самая…
— Знаю, знаю, дальше…
— Он попал в Школу на пари, чтобы насолить родителям. Папаша ворочает полотнами по миллиарду каждое, он хочет, чтобы я продолжил его дело, так вот нет, я сам буду создавать полотна по миллиарду, и однажды ему придется их оценивать. Тем не менее на набережную Малаке он являлся на крутой тачке с откидным верхом. Он очень быстро спелся с той парочкой. Все трое оставили Школу одновременно, в конце шестьдесят третьего. В последний год они были просто не разлей вода, можно сказать, что в этот год четверка и сформировалась.