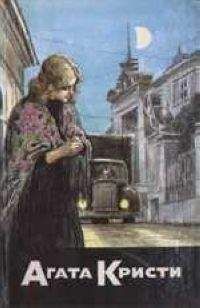– Так он женился дважды?
– Да. – Возница заговорщически понизил голос. – Его первая жена была плохая женщина. Красивая, да, но все время обманывала его с другими мужчинами – даже здесь на острове. Ему не следовало на ней жениться. Но во всем, что касается женщин, он неумный человек – слишком верит им.
И добавил, как бы извиняясь:
– Мужчина должен понимать, кому доверять, а сэр Уайлдинг не понимает. Ничего не знает о женщинах. Думаю, так и не узнает.
Хозяин виллы принимал Ллевеллина в низкой, узкой комнате, до потолка набитой книгами. Окна были открыты настежь, и откуда-то снизу доносилось нежное рокотание моря. Их бокалы стояли на столике возле окна.
Уайлдинг с радостью приветствовал его и извинился за отсутствие жены.
– Она мучается мигренями. Я надеялся, что здешняя мирная и тихая жизнь приведет к улучшению, но что-то не заметно. И врачи, кажется, не знают причины.
Ллевеллин выразил вежливое сочувствие.
– Она перенесла много горя, – сказал Уайлдинг. – Больше, чем может вынести девушка, а она была очень молода – да и сейчас тоже.
Видя выражение его лица, Ллевеллин мягко сказал:
– Вы ее очень любите.
Уайлдинг вздохнул.
– Слишком люблю – для моего счастья.
– А для ее?
– Никакая на свете любовь не возместит страданий, доставшихся на ее долю.
Он говорил горячо. Между ними уже установилась странная близость – в сущности, с первого момента знакомства. Несмотря на то, что у них не было ничего общего: национальность, воспитание, образ жизни, вера – все было различно, – они приняли друг друга без обычной сдержанности и соблюдения условностей. Как будто вдвоем выжили на необитаемом острове, а потом были долго разлучены. Они разговаривали легко и искренне, с детской простотой.
Потом пошли за стол. Ужин был превосходный, отлично сервированный, хотя непритязательный. От вина Ллевеллин отказался.
– Может, виски?
– Нет, спасибо, просто воду.
– У вас, простите, это принцип?
– Нет. Образ жизни, которому я больше не обязан следовать. Сейчас нет причин, по которым я не должен пить вино, просто я его не пью.
Поскольку гость произнес слово «сейчас» с ударением, Уайлдинг вскинул на него глаза. Заинтригованный, он открыл было рот, чтобы спросить, но сдержал себя и заговорил о посторонних вещах. Он был хорошим рассказчиком, с широким кругом тем. Он не только много путешествовал, бывал в разных частях земного шара, но имел дар все, что видел и испытал, живо представить слушателю.
Если вы хотели побывать в пустыне Гоби, или в Феззане, или в Самарканде, – поговорив с Ричардом Уайлдингом, вы как бы уже побывали там.
Его речь не была похожа на лекцию, он говорил естественно и непринужденно.
Ллевеллин получал удовольствие от беседы с ним, его все больше интересовал Уайлдинг сам по себе. Его магнетическое обаяние было несомненным, хотя и неосознанными, Уайлдинг не старался излучать обаяние, это получалось само собой. Он был человек больших способностей, проницательный, образованный, без надменности, он живо интересовался людьми и идеями, как раньше интересовался новыми местами. Если он и избрал себе область особого интереса… это был его секрет, он ничему не отдавал предпочтения и потому всегда оставался человечным, теплым, доступным.
Однако у Ллевеллина не было ответа на простейший, прямо-таки детский вопрос: «Почему мне так нравится этот человек?»
Дело было не в талантах, а в самом Уайлдинге.
Ллевеллину вдруг показалось, что он нашел разгадку.
Потому что этот человек, несмотря на все свои таланты, снова и снова совершает ошибки и, будучи по натуре человеком добрым и мягким, постоянно натыкается на неприятности, принимая не правильные решения.
У него не было ясной, холодной и логичной оценки людей и событий; вместо этого была горячая вера в людей, а это гибельно, потому что основана на доброте, а не на фактах. Да, этот человек вечно ошибается, но он чудесный человек. Ллевеллин подумал: вот кого я ни за что на свете не хотел бы обидеть.
Они опять развалились в креслах в библиотеке. Горел камин – скорее для видимости. Рокотало море, доносился запах ночных цветов.
Уайлдинг откровенно сообщил:
– Я всегда интересовался людьми. Чем они живут. Это звучит хладнокровно и аналитично?
– Только не в ваших устах. Вы интересуетесь людьми, потому что любите их.
– Да. Если можешь чем-то помочь человеку, это следует делать. Самое достойное занятие.
– Если можешь, – повторил Ллевеллин.
Уайлдинг глянул на него недоверчиво.
– Ваш скепсис кажется очень странным.
– Это лишь признание огромных трудностей на этом пути.
– Неужели это так трудно? Человеку всегда хочется, чтобы ему помогли.
– О да, мы склонны верить, что каким-то загадочным образом другие могут добыть для нас то, чего сами мы не можем – или не хотим добыть для себя.
– Сочувствие – и вера, – серьезно сказал Уайлдинг. – Верить в лучшее в человеке – значит вызвать это лучшее к жизни. Люди отзываются на веру в них. Я в этом неоднократно убеждался.
– И по-прежнему убеждены?
Уайлдинг вздрогнул, будто задели его больное место.
– Вы можете водить рукой ребенка по листу бумаги, но, когда вы отпустите руку, ребенку все равно придется учиться писать самому. Ваши усилия могут только задержать развитие.
– Вы пытаетесь разрушить мою веру в человека?
Ллевеллин с улыбкой ответил:
– Я прошу вас иметь жалость к человеческой натуре.
– Побуждать людей проявлять лучшие…
– Значит заставлять их жить по очень высоким стандартам, стараться жить сообразно вашим ожиданиям, значит быть в постоянном напряжении. А излишнее напряжение приводит к коллапсу'.
– Так что же, рассчитывать на худшее в людях? – язвительно спросил Уайлдинг.
– Приходится признать такую возможность.
– И это говорит служитель религии!
Ллевеллин улыбнулся.
– Христос сказал Петру, что тот предаст его трижды, прежде чем прокричит петух. Он знал слабость Петра лучше, чем знал это сам Петр, но любил его от этого не меньше.
– Нет, – с силой возразил Уайлдинг. – Не могу с вами согласиться. В моем первом браке, – он запнулся, но продолжал, – моя жена – она была прекрасная женщина. Она попала в неудачные обстоятельства; все, что ей было нужно, – это любовь, доверие, вера. Если бы не война… Что ж, это одна из маленьких трагедий войны. Меня не было, она была одна, попала под дурное влияние.
Он помолчал и отрывисто добавил:
– Я ее не виню. Я допускаю: она жертва обстоятельств.
Но в то время я был сражен. Я думал, что никогда не оправлюсь. Но время лечит…
Он сделал жест.
– Не знаю, зачем я вам рассказываю историю своей жизни. Лучше послушаю вашу. Вы для меня нечто абсолютно новое. Хочу знать все ваши «как» и «почему». На том собрании вы произвели на меня сильное впечатление.
Не потому, что вы повелевали аудиторией – это и Гитлер умел. Ллойд Джордж умел. Политики, религиозные лидеры, актеры – все могут это в большей или меньшей степени. Это дар. Нет, меня интересовал не производимый вами эффект, а вы сами. Почему это дело казалось вам стоящим?
Ллевеллин медленно покачал головой.
– Вы спрашиваете то, чего я сам не знаю.
– Конечно, тут сильная религиозная убежденность. – Уайлдинг говорил с некоторым смущением, и это позабавило Ллевеллина.
– Вы хотели сказать – вера в Бога? Так проще. Но это не ответ на ваш вопрос. Молиться Богу можно, опустившись на колени, в тихой комнате. Зачем публичная трибуна?
Уайлдинг нерешительно сказал:
– Видимо, вам казалось, что таким путем вы принесете больше добра, убедите большее число людей.
Ллевеллин в задумчивости смотрел на него.
– Из того, как вы это говорите, я заключаю, что вы неверующий?
– Не знаю, просто не знаю. В некотором роде верю.
Хочу верить… Я безусловно верю в положительные качества людей: доброту, помощь падшим, честность, способность прощать.
Ллевеллин помолчал.
– Добродетельная Жизнь. Добродетельный Человек.
Да, это легче, чем прийти к признанию Бога. Признать Бога – это трудно и страшно. Но еще страшнее выдержать признание Богом тебя.
– Страшнее?
Ллевеллин неожиданно улыбнулся.
– Это напугало Иова.[8] Он, бедняга, понятия не имел, что его ждет. В мире закона и порядка, поощрений и наказаний, распределяемых Всевышним в зависимости от заслуг, он был выделен. (Почему? Этого мы не знаем.
Было ли ему нечто дано авансом? Некая врожденная сила восприятия?) Во всяком случае, другие продолжали получать поощрения и наказания, а Иов вступил в то, что казалось ему новым измерением. После достопохвальной жизни его не вознаградили стадами овец и верблюдов – наоборот, ему пришлось претерпеть неописуемые страдания, потерять веру и увидеть, как от него отвернулись друзья. Он должен был выдержать ураган. И вот, избранный для страданий, он смог услышать глас Божий. Ради чего все это? Ради того, чтобы он признал, что Бог есть. «Будь спокоен и знай, что я Бог». Ужасающее переживание. Этот человек достиг высшего пика. Но продолжаться долго это не могло. Конечно, трудно было об этом рассказывать, потому что нет нужных слов и невозможно духовное событие выразить в земных понятиях. И тот, кто дописал Книгу Иова до конца, так и не сумел понять, про что она; но он сочинил счастливый и высоконравственный конец, согласно обычаю того времени, и это было очень разумно с его стороны.