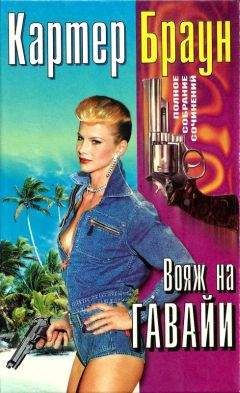Но были и другие варианты. Не исключено, что один из костюмов принадлежал Балакину.
Паспорт Балакина оставлен в кармане у Шальнева, а зыковский пропал. Что, если Балакин без ведома хозяина заглянул в шкатулку? Документ Балакину необходим, а в чертах его лица, как заметил Басков по автоматической привычке сравнивать, проскальзывало некоторое сходство с Зыковым.
И наконец не выглядел абсурдным вариант, что Зыков мог уступить Балакину свой паспорт – не бесплатно, разумеется.
В том и другом случае поведение Зыкова становилось объяснимым. Но почему паспорт понадобился ему именно в прошлую среду и почему он скрывает истинную причину, оставалось непонятным. Этим и наметил заняться в первую очередь Басков.
– Вот что, Константин Васильевич, – сказал он. – Давайте-ка все по порядку. И начистоту.
– Я что? Я – пожалуйста.
Басков включил магнитофон, и Зыков начал свой долгий рассказ, из которого, как позже обнаружил Басков, выяснилось, что Зыков обладает редкостной памятью на мелочи.
Около десяти часов вечера 24 июня, в воскресенье, Константин Васильевич Зыков сидел у раскрытого окна в своей комнате и смотрел на улицу. Было совсем светло – не прошла еще пора белых ночей.
Собственно, ничего интересного он не видел, потому что в канун понедельника люди ложатся спать пораньше и оживления на проспекте не наблюдалось. Зыков скучал, позевывал, но спать ему не хотелось, да и ни к чему укладываться в такую рань, если завтра можно валяться сколько угодно, так как на работу ему идти в ночную смену.
Вдруг зазвонил дверной звонок. Один раз – значит, к нему: соседу звонят два раза. Зыков никого не ждал, поэтому удивился, но открывать пошел с большой охотой: все-таки развлечение. Он набросил на плечи пижамный пиджак. Пиджак был точь-в-точь такой, какой он видел давным-давно, лет тридцать назад, на одном солидном пассажире мягкого вагона, в котором сам Зыков, тогда работавший в ремонтной бригаде, ехал два перегона по договору с проводником в служебном купе. Открыв дверь, Зыков увидел перед собой двух мужчин. Один, в темно-синем костюме, был коренастый и плотный, ростом точно с него (свои габариты Зыков знал: рост 174 сантиметра, вес от 75 до ЯО килограммов, смотря по режиму, объем грудной клетки на вдохе 120 сантиметров). Другой, в сером костюме, тоже не хилый и на полголовы выше. Первому лет пятьдесят с хвостиком, второй ему в сыновья годится.
– Добрый вечер, – вежливым баском сказал старший. – Шальнев дома?
– Дома, если спать не лег, – пошутил Зыков.
Но пришельцы шутить не были настроены. Они как будто торопились. Зыков обратил внимание, что карманы у обоих оттопырены и на груди и на брюках, а поклажи никакой нет.
– Мы к нему, – сказал старший и шагнул через порог.
Зыков протянул руку к выключателю, зажег в прихожей свет.
Молодой, войдя, аккуратно, бесшумно притворил за собою дверь.
– Андреич! – крикнул Зыков. – К тебе гости!
– Соседей разбудишь, – сказал, как цыкнул на него, молодой.
Из комнаты появился Шальнев в потертых сатиновых черных штанах, в белой рубахе с коротким рукавом, с очками в левой руке.
Чуть подавшись вперед, он вглядывался в старшего из гостей, а тот глядел из-под густых бровей на него, и так они стояли друг перед другом долго, дольше, чем спичка горит.
– Не узнаешь, Эсбэ? – наконец спросил гость.
– Саша, – словно не веря себе, прошептал Шальнев.
И они обнялись. А молодой вроде бы облегченно усмехнулся и сказал наблюдавшему в стороне Зыкову:
– Это называется «Друзья до гроба», или «Двадцать лет спустя». Детям до шестнадцати лет смотреть не разрешается. – И ткнул Зыкова пальцем в бок как бы играючи, но довольно ощутительно.
Зыкову такое панибратское обращение пришлось не по душе. Отметив стальную жесткость ткнувшего его пальца, он удалился к себе в комнату, а молодой крикнул ему вдогонку:
– Не горюй, папаша, еще поладим!
Зыкова это совсем озлило, он хотел ответить, что, мол, если такой папаша пожелает, запросто может из такого сынка лыка надрать и лапти сплести, но что-то подсказало ему не ввязываться.
Зыков опять присел к окну. Глухо слышимый за стеной оживленный говор был ему немного досаден, но он не завидовал. У него есть заботы послаще. Продавщица Валя из магазина электротоваров, где он покупает лампочки, обещала в следующую субботу поехать с ним на Кировские острова. На лицо она, конечно, не ахти, носик сапогом и лоб прыщавый, зато молоденькая и, видать, небалованая: под казенным халатом, он приметил, второй год зимой и летом все одну кофту носит.
Его приятные расчеты остановил стук в дверь.
Вошел сосед. Через голову его на Зыкова смотрел молодой гость.
– Будь другом, Васильич, – просительно сказал Шальнев. – Уж все закрыто, а у меня, знаешь, хоть шаром покати, угостить нечем… Ты не сходишь на Московский в ресторан? У тебя ведь там знакомство…
Соседа Зыков всегда готов был уважить, хотя и считал его не совсем полноценным человеком – по той причине, что сосед был оскорбительно и пугающе равнодушен ко всему тому, что сам Зыков и подавляющее большинство известных ему людей считали непременным условием настоящей жизни.
Только для порядка, чтобы соблюсти приличие, Зыков немного подумал, прокашлялся и молвил:
– Коли ты, Андреич, просишь – я готов.
– Сразу видно – страдал человек на своем веку, – вмешался молодой, скаля белые зубы. Он обошел Шальнева, приблизился к Зыкову, подал руку и представился: – Митя Чистов.
– Меня Костя зовут, – не глядя на него, но без обиды отвечал Зыков.
– «Папаша» не в масть прошел? Ну больше не буду, прости. – Митя заглянул ему исподнизу в глаза, но Зыков свойски грубовато отстранил его.
– Не булди. Чего взять?
Митя вынул из кармана брюк пачку десяток, положил на стол.
– Тут триста… Водочки, коньячку, шампанское любишь – шампанского бери… Икра есть – икру бери. Чего не дадут – тоже тащи.
– Ишь пулемет, – уже почти одобрительно заметил Зыков, надевая рубаху.
В дверях Митя обернулся к Зыкову.
– Поймай такси или «левого». Туда-обратно, пусть ждет.
И ушел.
– Ты, правда, не стесняйся, – почему-то шепотом возбужденно сказал Шальнев. – Придется нам сегодня кутнуть.
– Дружки старые, что ли?
– Тот, второй, Саша… Еще до войны водились. А Митю первый раз вижу.
– Давно разбежались? – Зыков уже надевал костюм.
– Да вот, знаешь, получается без малого четверть века. С пятьдесят седьмого.
– Видать, с большой монетой, – Зыков кивнул на пачку десяток.
Шальнев кашлянул в кулак, отвел глаза и сказал, будто оправдываясь:
– Где-то на Севере работали, я еще толком не расспрашивал.
– Понимаем. Калымили, значит. – Зыков положил деньги в бумажник. – Надо бы посуду какую захватить.
– Да-да, и сумку.
Они пошли на кухню. В большую пластиковую сумку на «молнии», принадлежавшую Зыкову, уложили одна в одну три разнокалиберные кастрюли и салатницу, принадлежавшие ему же, для закусок. И Зыков отправился в ресторан Московского вокзала. Как советовал Митя, он поймал «левого», попросил его обождать чуть в стороне, на Лиговке, и минут через сорок вернулся домой, нагруженный съестным и спиртным, как дальний запасливый дачник.
Гости, пока Зыков ездил, умылись и сидели, скинув костюмы, в одних трусах и майках. Взглянув на старшего, которого Шальнев звал Сашей, Зыков немножко испугался, хотя и не подал вида: руки и грудь его, там, где не закрывала майка, были синие, как баклажаны. Но тут же догадался, что это наколки, и успокоился. Митя встретил его появление громкими аплодисментами.
– На чем есть-пить станете? – ворчливо спросил Зыков, расстегивая сумку. Он намекал на то, что у Шальнева-то обеденного стола не имелось.
Митя приподнял крышки кастрюлек, потянул носом и зажмурился.
– Такую закусь можно и на полу.
– Что мы – арестанты, что ли? – продолжал ворчать Зыков.
При этих словах гости, молодой и старый, быстро переглянулись и старший сказал:
– Может, на кухне?
Шальнев замахал на него руками.
– Ну зачем же, Саша? Сейчас придумаем что-нибудь.
– А чего тут думать, – сказал Зыков и кивнул Мите: – Давай-ка мой раздвижной притащим. – И, подумав, прибавил: – А может, проще ко мне?
– Нет-нет, – с непривычной для Зыкова решительностью запротестовал Шальнев. – Будем здесь.
У себя в комнате Зыков хотел отдать Мите остаток денег, их было сотни полторы, но Митя сжал его ладонь в кулак вместе с бумажками и сказал небрежно:
– Еще сочтемся. Только начинается, а мы с Сашком народ измученный, до звездочек злые.
– Ты про коньяк? – пряча деньги в карман, уточнил Зыков.
– Про него, проклятый.
И они еще до застолья сделались если не друзьями, то понимающими друг друга людьми: Зыков признавал такую вольность с деньгами баловством, но людей вроде Мити, которые их не считают, очень уважал.
А потом была душевная пьянка, ради которой Зыков не пожалел даже своей льняной скатерти цвета малосольной семги, точно такой же семги, какая лежала на одной из тарелок.