Это философское замечание было встречено молчанием, и Лейф прикинул, не стоит ли положить руку ей на бедро. Нет, вряд ли… Она совершенно трезва, да к тому же еще и раздражена. Сам он был в меру пьян и очень хотел спать, так что и для него эта затея была не особенно привлекательна.
К тому же в декабре они уже этим занимались.
— Зажжем свет? — спросил он на всякий случай. Что она хочет? Вывести на чистую воду Хенрика? Или Роберта? Или вообще всю эту тягомотину?..
— С чего бы это? Час ночи.
— Знаю, — сказал Лейф. — Снимаю предложение. А что скажешь насчет Роберта?
Эбба помолчала.
— Думаю, ты прав.
— Я? — искренне удивился Лейф. — В чем я прав?
— Женщина, — вздохнула Эбба. — Ты же сам выдвинул теорию, что Роберт нашел женщину. Какая-нибудь старая романтическая история… У него в каждом городе старые романтические истории, а уж в Чимлинге…
— Гм… — сказал Лейф и все же положил ей руку на бедро и слегка погладил.
Но это приглашение, как он и ожидал, понимания не встретило.
— Вот это да, — подумал он весело. — Уже две теории за одну ночь!
Он не удержался и фыркнул.
— Что тут смешного? — спросила Эбба недовольно. — Если ты видишь во всем этом что-то смешное, поделись. Охотно посмеюсь за компанию.
— Разделенная радость — наполовину горе, — философски заметил Лейф и повернулся к ней спиной. — Шучу. Я не смеялся, а чихнул. В ноздрю что-то попало. Давай спать.
Я замужем за идиотом, подумала Эбба Германссон Грундт. Сама выбрала.
Или не выбирала?
Дороги оказались вовсе не в таком идеальном состоянии, как предполагал Якоб Вильниус. За первый час он проехал всего семьдесят километров. По дороге ему встретились две снегоуборочные машины.
Какая, впрочем, разница — он любил ездить в одиночестве, особенно ночью. «Мерседес» урчал, как сытая пантера. Он поставил диск с Телониусом Мунком и думал о Кристине. Последнее время его беспокоило, как развиваются их отношения, и, по-видимому, зря. Они не занимались любовью уже несколько недель, но у нее были долгие, как всегда, месячные, так что беспокоиться было не о чем. Но вчера все было замечательно. Их снова посетила Муза Любви. Он мысленно усмехнулся — откуда всплыл это старомодный эвфемизм? Впрочем, у любимого ребенка имен много… Можно сказать и так — Муза Любви. Вчера Кристина была такой, какой он не видел ее уже года три, после рождения Кельвина уж точно. И пока они прощались у отеля, ему показалось, что она не прочь повторить вчерашний подвиг.
И к тому же она сказала, что любит его, — сказала так, что никаких сомнений возникнуть не могло.
Ты счастливчик, Якоб Вильниус. Тебе выпал счастливый билет, не забывай об этом.
Он произнес эти слова вслух и улыбнулся. Мне повезло, может быть, больше, чем я заслуживаю. Моя жизнь могла бы остановиться после катастрофы с Анникой, но не остановилась. Могли начаться суды, скандалы, но, на счастье, у него оказалось достаточно денег, чтобы решить все проблемы экономическими средствами. Одно условие — дети остаются с ней и он не должен никогда показываться ни им, ни ей на глаза.
Но Анника — прочитанная глава. С тех пор он многому научился.
Он втянул ноздрями воздух и почувствовал, что запах Кристины все еще с ним. Он так хотел, чтобы они поехали вместе… и так бы оно и было, если бы не этот поганец Роберт, которому вздумалось исчезнуть. Сидела бы сейчас рядом с ним… машина мчится в ночи, а ему достаточно протянуть руку, чтобы…
Запел мобильник и положил конец его фантазиям.
Кристина, решил он.
Но это была не Кристина. Это был Джефферсон.
— Jacob, I'm terribly, terribly sorry, — пропел он.
Сначала Якоб решил, что Джефферсон извиняется за поздний звонок, но дело было вовсе не в этом. Нет, оказывается, в Осло все запуталось в какой-то инфернальный клубок (он так и сказал: infernally complicated). Что, с ними всегда так трудно иметь дело? С норвежцами. Они совершенно не умеют вести переговоры, не так ли? Повсюду какие-то государственные предписания, не так ли? Хотелось бы понять, ну да ладно, потом как-нибудь Якоб посвятит его в норвежские тонкости. А сейчас проблема в том, что ему придется задержаться в Осло как минимум на сутки, а в четверг прямо оттуда лететь в Париж. Так что завтрак отменяется. Может быть, перенести встречу на начало января? Конечно, в Стокгольме! Он встретит Новый год с семьей в Вермонте, а дальше… что скажешь насчет 5–6 января?
Надутый гарвардский щенок, с яростью подумал Якоб.
— Разумеется, — сказал он вслух, — не вижу никаких препятствий.
Джефферсон поблагодарил еще раз, повторил, что он «terribly, terribly sorry», и повесил трубку.
Якоб Вильниус выругался, посмотрел на часы — без четверти два — и сунул мобильник в карман пиджака. Посмотрел на датчик топлива — осталось меньше четверти бака.
До Стокгольма еще три часа. Как минимум. А может, три с половиной, при такой-то дороге. Вдруг навалилась усталость.
Если развернуться, уже через час он окажется в постели с Кристиной.
Он не успел принять никакого решения — из мрака внезапно засияли огни заправки. Якоб свернул с шоссе и остановился у автомата. В любом случае надо заправиться и выпить чашку кофе.
Позвоню и спрошу, в каком она настроении. Если в таком же, как вчера… Он полез за телефоном и выудил вместе с ним ключ от номера. Оказывается, вчера в суматохе он забыл его вернуть. А почему бы не сделать ей сюрприз?
Якоб вышел из машины, нашел колонку с девяносто восьмым бензином и сунул пистолет в горловину бака.
А почему бы и нет? Тихо прокрасться в номер, тихо раздеться и нырнуть под согретое ее теплом одеяло.
— Fuck you, мистер Трепло-Джефферсон, — проворчал Якоб, когда сработал отсекатель.
Бак был полон. Зашел на заправку, заплатил за бензин и выпил двойной эспрессо.
Потом сел в машину, сладко потянулся и взял курс на Чимлинге.
В среду 21 декабря Розмари Вундерлих Германссон открыла глаза и посмотрела на будильник. Скоро шесть. В голове застряли две мысли.
Первая: Роберта нет в живых.
Вторая: сегодня после обеда мы распрощаемся с домом.
Никаких чижей и никаких словесных пузырей. Она полежала немного, вглядываясь в темноту и прислушиваясь к ровному дыханию мужа.
Неужели это правда? Насчет Роберта — она попробовала сразу вычеркнуть это дикое предположение из сознания, но ничего не получилось: мысль возвращалась и возвращалась. Роберта нет в живых. А может быть, он явился ночью и спит, как ни в чем не бывало, в своей постели? Пойти посмотреть… нет, не пойду. Потому что если его там нет, то прошло уже день и две ночи, как он исчез. А это может означать только одно… хватит!.. Это уж слишком.
И второе. Дом… В четыре часа они будут сидеть в конторе Лундгрена в банке. Вот так. Лундгрен в своем костюме в полоску и они на стульях с березовой фанеровкой. Будут продавать… что?
Дом? Жизнь? Эббе было два годика, когда они сюда переехали. Роберт и Кристина в нем родились. Моя жизнь — здесь. Почти сорок лет в Чимлинге. И что со мной будет? Никогда уже не буду сидеть в патио и есть молодую картошку? И не увижу, как появятся первые сливы на деревце, посаженном шесть лет назад? Что ж, буду сидеть на пластмассовом стульчике на голой скале под палящим испанским солнцем. Сидеть на голой скале и ждать смерти. Какой в этом смысл? Неужели Бог уготовил мне такой конец?
И что Он хочет, чтобы я взяла с собой? Шестьдесят никому не нужных, пустых лет? Мамины фламандские кружева? Записную книжку, чтобы каждую неделю посылать открытки своим трем… ну хорошо, четырем подругам… рассказывать о химически синей воде в бассейне, о море, о пластмассовых стульчиках?
Нет, решила Розмари Вундерлих Германссон. Не хочу.
Вернее, так сказала не Розмари Вундерлих Германссон, а ее внутренний голос — очень тихо, она еле расслышала. Где взять силы, чтобы воспротивиться Карлу-Эрику? И как? Где вбить оборонительные колья?
Оборонительные колья? Это еще что такое? Такого и понятия-то нет… но если Роберта и в самом деле нет в живых, неужели у Карла-Эрика хватит совести тащить ее в банк и…
Она в ярости на саму себя вскочила с постели. С чего бы это Роберту умирать? Что ей приходит в голову, что за черные мысли? И это не в первый раз. Еще когда дети были маленькими, она часто думала: а что, если они умрут? Попадут под автобус, провалятся под лед, их искусает бешеная собака… Роберту тридцать пять, он прекрасно может сам о себе позаботиться. И в конце-то концов, он пропадал почти всю свою жизнь. Сказать по правде, это его специальность — пропадать. А сейчас у него и причина есть прятаться, что тут удивительного?
И с чего бы ей вообще идти к этому Лундгрену в костюме в белую полоску? С чего бы она должна взять и сама, своей собственной рукой списать в расход всю свою жизнь? Нет, она не такая глупая гусыня, как воображает Карл-Эрик… возьму и скажу этому занудному Истинному Столпу Педагогики: собирай свой чемодан и поезжай хоть в Андалузию, хоть к такой-то матери. Но один. Я за тобой не потащусь.
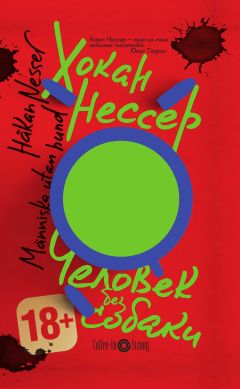

![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)

