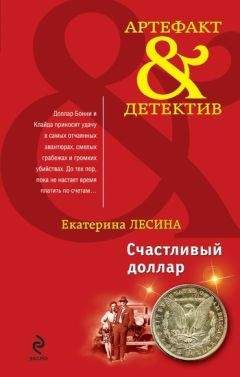И читать их было весело. Нет, я сам не умел, но Бонни читала нам с Клайдом вслух, когда газеты, когда стихи. Стихи-то у нее были красивые, жизненные[6].
– Послушай, – Бонни сидела на кровати и чесала голую пятку. Во второй руке ее был лист бумаги и карандаш, который она задумчиво грызла.
Алиби каждый из нас припас,
Но все ж оказался в тюрьме.
В итоге лишь некоторые из нас
Оправдаться смогли в суде.
Клайд, что-то сонно пробормотав, отвернулся к стене, но Бонни не заметила. Как всегда, увлеклась, сочиняя. Джонси нравилось смотреть на нее в такие минуты. Она становилась словно бы далекой и сказочно-чистой.
– Тебе нравится? – спросила она, глянув искоса, с недоверием.
– Очень, – честно сказал Джонси.
Кивнув, Бонни продолжила:
Красотке судьбу легко изменить,
Опуститься на самое дно,
Но никто не может об этом судить,
Не зная при этом ее.
Подружки в тюрьме делились всегда,
Кто и как за решетку попал,
Но меня растрогала только одна —
Девица по имени Сал.
– Потише вы там, – пробурчал Клайд, закрывая локтем глаза. – Или идите вон…
– Пошли. – Бонни вскочила и, подобрав рассыпавшиеся листы, выскочила из домика. Снаружи было тепло, но не сказать, чтоб жарко. Корявые сосны топорщили ветви, заслоняя небо. Ветер с разбегу ударялся о стволы, вышибая смоляную слезу, а те скрипели, качались, разбрасывая тени.
Бонни села на траву у домика и снова уткнулась в листики.
– Что там дальше-то? – Джонси подобрался близко. Ближе, чем когда бы то ни было раньше. Ее волосы пахли цветами…
– Дальше? А, точно. Слушай.
Сквозь грубость сияла ее красота,
И в тюрьме любили ее.
И, не колеблясь, Салли всегда
Брала от жизни свое.
Однажды в последнюю ночь в тюрьме
Она доверилась мне,
И я постараюсь, чтоб знали все
О ее суровой судьбе.
– А тебе точно нравится? Я вот думаю, что, может, не судьбе, а по-другому как-то срифмовать?
– Так тоже хорошо.
Улыбнулась. Всегда улыбалась, глядя на него. Думает небось, что Джонси – совсем пацан. Ну да, ему с Клайдом не равняться, зато Клайд стихи слушать не любит, а Джонси всегда готов.
– Тут еще немного. Но вообще я поэму написать хочу. И в газету отправить. Пусть напечатают. Как ты думаешь, напечатают?
– Конечно.
Еще бы им не напечатать стихи самой Бонни Паркер… И Джонси закрыл глаза, слушая…
На ранчо в Вайоминге я родилась.
Никто не холил меня.
Меня учила силой брать власть
Грубых ковбоев семья…
Варенька долго решалась. Она доставала заветную монетку. Гладила, ощущая пальцами неровный край. Пробовала на язык – кисловатый, металлический вкус. Вытирала о щеку и снова гладила.
Дева в венце, который изнутри подбит терном.
Орел, расправивший крылья, чтобы отвлечь внимание от острых когтей и загнутого клюва.
Звезды – у каждой есть свое имя.
Любовь.
Надежда.
Вера.
Жаль, что она умерла тогда. Но если подумать, кому-то ведь надо. Веры нет, а Варя есть. И будет. Если решится.
Орел или решка? Аверс или реверс? Грань удачи, за которую уплачено сполна. А Олежка-дурачок так и не догадался, что его обманули. Тот-кому-нельзя-перечить обманул. Отдал фальшивую монетку. Проверял. Варенька-то сразу поняла: этот доллар ни с чем не перепутаешь, даже со вторым точно таким же.
Поэтому у Вареньки настоящий, а Олег мертв.
Итак, получится или нет? Если орел, то Варенька победит. А решка…
Серебряный кружок привычно взлетел, кувыркнувшись несколько раз в воздухе, шлепнулся на ладонь. Орел. Белокрылый.
Ну что ж, все равно другого пути нет. И Варенька, набрав номер, прижалась щекой к стеклу, как когда-то в далеком детстве, когда мир делился на «внутри» и «снаружи». Она закрыла глаза, настраиваясь на разговор. Вздохнула и, когда трубку подняли, пролепетала, захлебываясь непритворными слезами:
– Сереженька? Нам нужно встретиться. Срочно. Это из-за Олега… я знаю, кто его убил.
…кто-кто-кто в теремочке живет?
Лягушка, которая, сколько ее ни целуй, принцессой не станет. Мышка-норушка, чья нора ломится от золота. Храбрый заяц в серой милицейской форме. Хитрая лиса, притворяющаяся человеком. Волк с выпавшими от старости клыками. Медведь, считающий себя самым сильным.
Кто-кто в теремочек стучит?
Никто.
Он привык называть себя «никем», постепенно отучая и их от имен. Какой в них смысл, кроме привычки? Никакого. Смысла нет, а вред есть. Так учил тот-кому-нельзя-перечить.
И входил в чужие теремки, с легкостью меняя шкуры, а они уже следом, сквозняком в приоткрытую дверь.
Кто-кто-кто? Где-где-где? Отвечай, лягушка, где хранишь обручальное колечко, на Ивана-дурака припасенное? Выворачивай, мышка-норушка, нору да молись, чтобы хватило откупиться. Дрожи, заяц, делись нажитым. И ты, лиса, радуйся, если чернобура и шкурой ценна…
Только беззубые волки могут спокойно плакать на луну. Волков тот-кому-нельзя-перечить щадил. А вот медведям доставалось по полной.
Этот бродил по клетке, кидался на прутья, матерясь. Сунул в щели руки, пытаясь дотянуться. Наваливался с размаху так, что звенела, растягивалась цепь, грозя брызнуть звеньями.
– Ты? Слышишь? Я тебя найду. Я… я всех вас найду. Урою.
Он захлебывался руганью и снова бросался на клетку.
– Да вы знаете, кто я? Психи, да? Залетные…
Иногда Варенька решалась подойти поближе. Ей было интересно. Она садилась на раскладной стульчик и разглядывала медведя. Красное, опаленное чужим солнцем, тело. Оно тяжелое, какое-то глинистое и неповоротливое, расписанное причудливыми узорами татуировок. Ходят мышцы, трещит одежда, стонут прутья и цепь.
Держат.
– Знаешь, шмара, что с тобою Витек сделает? Не знаешь… – медведь принимался описывать. Он даже забывал о своем косноязычии и злости, с любовью сочиняя будущее для Вареньки.
А когда за него взялись, заплакал. Не кричал, не матерился, а только слезы ронял, на Антошку глядя. Вареньке даже жалко его, такого никчемного, стало.
И из жалости она украсила могилку васильками. Получилось красиво.
– Ну? Что ты хотела сказать? – Сергей примчался быстро. И переодеться не успел, как был в грязных, поношенных джинсах и рубашке с коротким рукавом, так и остался.
Орел-решка, аверс-реверс… ну же, Варенька, начинай игру.
– Проходи. На кухню. Или нет. Я выйду. Извини, но я очень боюсь, что…
Выдернул за порог, потащил по лестнице мимо лифта. Потом на улицу и в машину. Похищение? Нет. Слишком многие их видели. Он просто разнервничался.
– А твоя машина, она не может… – Варенька коснулась мизинчиком мочки уха.
– Не может. Говори.
Она съежилась на переднем сиденье, всхлипнула, смахнула слезу и тихо – пусть наклоняется, чтобы расслышать, – заговорила.
– Олег, он не тот, за кого себя выдавал. Думаешь, он хороший, а я плохая? Любовников заводила… заводила. Я хотела от него избавиться. Нет! Не так, как ты подумал. Господи, ну не смотри на меня, не я его убила, а…
Наклонился и придвинулся. Пахнет потом и дымом. Шашлыки жарил? Костры жег? Не смотреть на лицо, это сломает сцену.
Тот-кому-нельзя-перечить учил, что сцену следует играть до конца.
– …как мы познакомились, знаешь? Он меня спас. Романтично, правда? Я глупенькая была совсем. Одна в чужом городе. Друзей нет да и быть не может. Конкуренция. Кругом сволочи, и каждый норовит на упреждение ударить. Если сейчас не мешала, то в будущем помешать могу. Это же естественно, что люди друг другу мешают…
Вздох.
– Однажды я поняла, что больше не могу. Денег нет. Жилья нет. Перспектив нет, разве что на панель… тогда это мне казалось неприемлемым выходом. Иду. Вижу – мост. Река под ним. И как-то само. Забралась. Прыгнула. Почти захлебнулась, а меня спасли. Представляешь?
Теперь можно и в глаза заглянуть. Ледяные. Ты сволочь, да? Тебе совсем не жаль бедную девушку? Ничего. Скоро все изменится.
– Меня тогда это больше всего и удивило, ну что кто-то на помощь пришел. А Олег к себе забрал. Пожить разрешил и дальше… свадьба. Тогда я еще удивилась, зачем так скоро свадьба? И почему он мою фамилию взять решил…
– Твою?
– Ну да.
Не знал? Думал, что Олеженька с тобою всем делился? И теперь обижаешься от этакого недоверия? Проверять побежишь? А и проверяй. Варенька не лжет. Точнее, не здесь лжет.
– Я тогда тоже удивилась, а Олег… он сказал, что это из-за отца. Что не хочет от него ничего, даже имени и… и я не должна лезть, куда не просят.