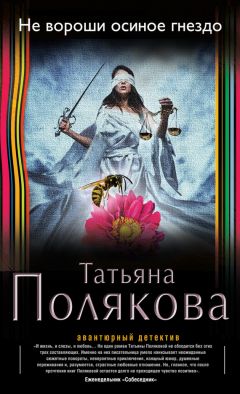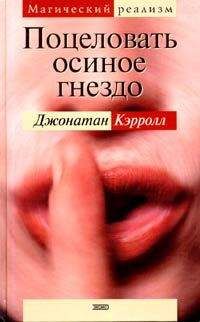Ознакомительная версия.
Мне хотелось биться головой о стену...
Проскуров перевалился на бок, и я поймал на себе его стерегущий взгляд.
- Как вас именовать: господин или товарищ? - спросил он громко.
У меня застучало в висках.
- Это не имеет значения, - ответил я.
- Вы русский или только владеете русской речью?
На такой вопрос я без опаски мог ответить прямо:
- Я русский.
- И вы не связаны?
- Как видите.
- Почему?
Я промолчал. Продолжать такой разговор было хуже пытки огнем и каленым железом.
- Вы живете какой-нибудь идеей или так... вообще? - спросил Проскуров.
- Каждый живет своей идеей, - ответил я и закрыл глаза, делая вид, что хочу спать.
Но Проскуров не унимался: ему нечего было терять, участь его была решена.
- Что вы здесь делаете?
Я промолчал.
- За сколько сребреников продал свою душу, Иуда?
Я не ответил.
- Сволочь! - выругался Проскуров. - Этот капитан хвастает, что у него даже мертвые разговаривают. Посмотрим! Я плюну перед смертью в его рожу...
Ночь превратилась в кошмар. Мгновениями я, кажется, забывался, но это было мучительное забытье. Думы терзали меня, взвинчивали нервы, я был на грани психоза.
Проскуров всю ночь не спал. Он стонал, ворочался, бранился, кому-то угрожал, даже смеялся, засыпал меня вопросами. Я, сжав зубы, молчал и притворялся спящим. Все время я ловил на себе его взгляды, и они действовали на меня, как ожоги.
На рассвете, едва ночной мрак за окном сменился предутренней серостью, в комнату вошел Шнабель с двумя солдатами. Проскурова увели.
- Шкура!.. - бросил он мне последнее слово.
"Вот и всё! - подумал я. - Был человек, жил, смотрел, боролся, дышал вместе со мной одним воздухом - и человека не стало. А я, кроме фамилии его, ничего не узнал".
Минут десять спустя где-то вдали простучала короткая автоматная очередь...
15. ПРИЯТНАЯ ПРОГУЛКА
В начале ноября неожиданно наступило потепление, пошли мелкие дожди.
Все это время я жил под впечатлением истории с парашютистом лейтенантом Проскуровым. Пьяный Похитун сообщил мне, что Проекурова вначале предполагали повесить, но затем Гюберт приказал расстрелять. Как объяснил мне Похитун, мужество Проскурова поразило даже Гюберта. Он решил проявить благородство и заменить ему позорную смерть более почетной.
Но это не меняло сути дела: Проскурова не стало, он бесследно исчез, его закопали где-то в лесу, не осталось даже могилы. Этот лейтенант все время стоял у меня перед глазами, в моих ушах звучал его гневный голос. Я думал о нем постоянно, он являлся передо мной во сне, требуя ответа: господин я или товарищ?
Я чувствовал какую-то вину перед погибшим Проскуровым, долго и упорно спрашивал себя: каким образом мог бы помочь ему, чем облегчить его судьбу? И не находил ответа. Но в душе какой-то голос неумолимо твердил, что я все же мог предпринять попытку, но не сделал этого. Мне казалось, что вина моя состоит уже в одном том, что я по-прежнему жив, здоров, хожу, ем, пью, курю, выполняю свое задание, а Проскуров лежит в земле, истерзанный и расстрелянный врагами. А может быть, он вовсе не Проскуров, а какой-нибудь Фролов или Донцов и родом не из Баталпашинска, а из Ленинграда или Саратова?
Я не знал и никогда уже не узнаю, зачем он оказался в районе Опытной станции, с каким заданием его сбросили. Но этого не добился и Гюберт.
Между тем мое время уплотнилось еще более. Я стал не только учеником, но и учителем. Гюберт вызвал меня к себе и сказал, что поручает мне обучение одного парня.
- Что от меня требуется? - опросил я.
- Его надо основательно познакомить с Москвой. Он должен иметь представление о ней, как любой москвич. В вашем распоряжении будут карта и справочник.
Мне оставалось только принять приказание к пополнению.
Я ожидал почему-то, что учеником окажется немец, но комендант Шнабель привел ко мне русского.
- Константин, - назвал он себя при знакомстве, не сказав фамилии.
По виду ему было не больше двадцати пяти - двадцати шести лет.
"Что же тебя, подлец, толкнуло идти в услужение к фашистам? - подумал я, взглянув ему в глаза. - Смерти испугался?"
По опыту я знал, что пути к душе человека очень часто непроходимо трудны. Познакомившись с Константином, я сразу почувствовал, что никакого душевного контакта между нами не будет.
Константин показался мне человеком чрезвычайно тяжелым, с явно угнетенной психикой. В выражении его худого, истощенного и малоподвижного лица проглядывала не только смертельная усталость, но еще и тупое безразличие, равнодушие ко всему, что его окружало. Жизнь, видно, основательно выжала, высушила его. Его скорбные глаза смотрели отчужденно, а подчас я подмечал в них глубокую опустошенность.
Я невольно сравнивал его с Проскуровым: в том бурлила жизнь, а в этом уже свила себе гнездо смерть.
За два занятия я с невероятным трудом вытянул из него несколько слов, не относящихся к делу, и узнал, что он бывший кадровый офицер в звании старшего лейтенанта, окончил Орловское танковое училище, в плен к немцам попал в бессознательном состоянии, тяжелораненым. И все.
На занятиях он молчал, безразлично смотрел на меня и в ответ на мои объяснения угрюмо кивал головой. За два урока он не задал мне ни одного вопроса.
После второго урока я отпустил Константина и решил проверить, куда он пойдет. Мне хотелось узнать, где он живет: на Опытной станции или в городе? Лучше всего было сделать это из комнаты Похитуна, окно которого выходило во двор.
Похитун отдыхал, лежа на неубранной постели, задрав ноги в сапогах на спинку кровати. В комнате пахло водкой и чесноком.
Заговорив с Похитуном, я смотрел в окно: Константин, опустив голову, медленно пересек двор и скрылся в двери дома, где размещался Курт Венцель и другие младшие офицеры. Значит, жил он, как и я, на Опытной станции. То, что я не видел его ранее, не удивило меня.
- Дождь все сыплет? - спросил Похитун, не меняя позы.
Я ответил, что дождь перестал.
- В город заглянем?
Как я мог возражать, когда только и думал о городе!
Но пошли мы не сразу, а после обеда. Зашли в казино. Оно пустовало. За единственным столиком сидели три эсэсовца, пили водку и громко разговаривали. На помосте дребезжал плохонький оркестр из пианино, аккордеона и скрипки. Тщедушный, обросший щетиной румын с огромными, на выкате, глазами пиликал на скрипке, и она издавала фальшивые, тянущие за душу звуки. От них даже на лице Похитуна обозначилась гримаса страдания.
- Мерзавец мамалыжник, что вытворяет! - произнес он, покачав головой, и потянул меня к стойке.
У меня в кармане были считанные гроши, положенные деньги должны были выдать лишь завтра, но о наличии этих грошей Похитун знал с моих слов. Мы выпили по стопке водки, и Похитун, как всякий пьяница, сразу осоловел. На него напала болтливость. Он взял меня под руку, и мы зашагали по городу.
За эту неделю я сравнительно хорошо изучил Похитуна. Я догадывался, что ему приказано приглядывать за мной и что он неспроста сам предлагает мне прогулки в город.
Но я понимал также, что моя водка и мои деньги тоже устраивают его и что о распитии водки за мой счет он доносить Гюберту не станет.
Чем больше узнавал я Похитуна, тем больше поражался. Даже в пьяном состоящий он легко разбирался в головоломных шифрах и никогда не допускал ошибок. Язык его заплетался, когда он говорил об обычных вещах, но, как только речь заходила о делах профессиональных, он изменялся до неузнаваемости. У меня сложилось впечатление, что шифровые и кодовые вариации так прочно засели в его голове, что говорит он о них чисто автоматически.
Похитун был в жесточайшей вражде с самой элементарной гигиеной. Он не пользовался зубной щеткой, обходился без носового платка, с отвращением относился в чистому белью. Кровать его неделями стояла неубранной, полотенце было черным-черно. В баню его загнали чуть не насильно, под угрозой ареста, когда всему личному составу станции делали противотифозные прививки.
Я испытывал к нему непреодолимое чувство брезгливости, но с этим приходилось мириться: Похитун был мне нужен, и пока я не видел на Опытной станции другого человека, которого можно было бы использовать в своих интересах.
Мы шли по самой людной улице города. Миновали "Арбайтсдинст" ("Биржа труда"), "Ортокоммандатур" ("Местная комендатура"). Я внимательно ощупывал взглядом стены домов, заборы, но сигналов Криворученко не находил. Мы свернули на поперечную улицу, прошли мимо сожженного здания кинотеатра, в который когда-то водила меня жена. Рядом уцелело каменное помещение бывшей пищеторговской столовой. Сейчас на нем висела небольшая вывеска с надписью на немецком языке - "Зольдатенхейм" ("Солдатский клуб"). На перекрестке свернули еще раз, прошли квартал и очутились возле парикмахерской. Над входной дверью в нее, на куске железа, желтым по черному красовалась предупреждающая надпись: "Нур фюр ди цивильбефолькерунг" и тут же по-русски! "Только для гражданского населения".
Ознакомительная версия.