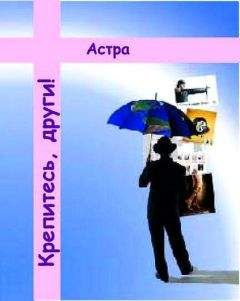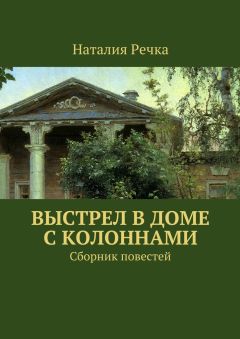— Под каким? — Викентий Матвеевич знал, и сам же говорил об этом майору, да тот, видно, запамятовал.
— Чтобы они не платили долгов Газпрому!
— Ишь ты.
— Так нам и надо! — злился Семен Семенович. — Тащим к себе их демократию, точно заморскую невесту. Промышленность остановилась, народ криком кричит, жулики расплодились, как тараканы. А мы их во власть выбираем в этой дерьмократии, что в Кузнецке, что в Нижнем Новгороде. Учителя, святые люди, прекратили занятия с детьми! Голодают! Когда это было? Позор! Нет, Викентий Матвеевич, демократия не для нас. Вон, в девяносто третьем, в октябре, помнишь? — расстрелял собственный парламент, и что? Вскочил петух на забор, кричит с танка, ан руки-то в крови, кто он теперь?
— Помнишь, Семен, как народ повалил тогда на Пресню? Зевак на улицах, как на гулянии! Нам все игрушки, — майор погрустнел. — Потом как заполыхал, как задымился Белый дом. Мне из штаба хорошо видно было. Клубами черными, с полымью, лишь красные флаги сквозь них трепетали… Нет, Викентий Матвеевич, труха все это. Верховная власть должна быть крепкой, единодержавной, как всегда было на Руси. Иначе рассыплемся на кусочки.
— Военным людям нравится дисциплина, — миролюбиво согласился Викентий Матвеевич.
— Я и не скрываю этого. Что такое ваша свобода? В понятии русского народа свобода — это воля, а воля — озорничество. Дать ребенку свободу, значит, погубить его, дать русскому человеку свободу, значит, погубить Россию. Так и происходит.
— Ты слышал о гонорарах этого рыжего? Четыреста пятьдесят тысяч долларов за книгу! — усмехнулся Викентий Матвеевич.
— Да слышал, слышал. Такая же пакость, как и все они там наверху. У них свои разборки. Деньги — в заграничные банки, народу — лапшу на уши. Что же нам-то делать?
— Пока не поздно, все сбережения перевести в доллары.
— А где хранить? Государство опять обманет.
— А коммерческие банки, думаешь, не обманут? Клады пора закапывать, земля сохранит. Дожили. Держите деньги в банке, а банку в огороде — безнадежно усмехнулся Викентий Матвеевич.
— Не верит народ правительству, уже не верит. У кого, в какой стране такое возможно? Государство чистит карманы граждан, яко тать в нощи… куда ж бедному человеку податься? Куда-а?… Беззащитны мы, сиры и бесправны в родном отечестве, — старый солдат с горечью отвернулся.
Они прошлись до большой дороги и повернули обратно. Был час утренней выгулки собак. Множество животных разных пород, в том числе овчарки и доги, бегали по всему скверу без поводков и намордников, сбивались в стаи, учиняли драки и хриплый злобный лай. Чистый снег покрывался ежедневными пятнами их грязи. Собак было столько, что мамашам с колясками и с маленькими детьми гулять по дорожкам становилось опасно.
— Выйдешь еще? — спросил Семен Семенович.
— Навряд ли. Разве что к вечеру. Как же нам разобраться с этими «тиграми и драконами»?
— Будем наблюдать.
Тот недоброй памяти октябрь девяносто третьего года, грохот канонады на Пресне ударил по здоровью Мокия Кузьмича первым инсультом. Внезапно, среди бела дня, прямо за рабочим столом, старик обмяк и повалился на левый бок, уронив телефонную трубку. Недели через три речь его восстановилась, в руках для устойчивости появилась массивная резная трость, однако, на былое здоровье рассчитывать уже не приходилось. Поэтому-то и повез Егоров своего зятя «в медвежий угол» к холмистым переулкам Трехгорья, там же, у Красной Пресни.
Впервые в жизни Алекс увидел этот двухэтажный, нескладный, крепко сделанный домок с аршинными стенами и мелкими оконцами. Он выделялся простою побелкою, сквозь которую нет-нет да и розовел голый кирпич.
«Утюг»- усмехнулся Алекс, вылезая из машины.
В этом неказистом строении, по объяснениям тестя, совсем недавно располагался склад министерства бытового хозяйства, упраздненный лишь в позапрошлом году. Теперь же, «охраняемый государством, как архитектурный памятник середины восемнадцатого века» домик стал собственностью господина Егорова. Кому этот «утюг» принадлежал от-века, Алекс стал догадываться, когда, отгремев железными дверями, стали подниматься — он, Грач, Мокий Кузьмич и доверенный нотариус, по крутым, белого камня ступеням на второй этаж. Ковры, занавеси, старинные стулья, лавки, сундуки… по дубовым кондовым доскам пола мужчины шли под крепкими сводами в залу. Перед ее тяжелой, с латунными накладками, дверью находились две-три двери поменьше. Из одной вышел и присоединился к ним Константин Второй, в других, чуть приоткрытых, виднелись фигуры служащих и современное офисное оборудование.
Зала сохраняла облик, соответствующий впечатлению от всей постройки. В камине потрескивал огонь, вдоль белых стен тянулись глухие деловые шкафы, батареи парового отопления были прикрыты дубовыми панелями, всю середину помещения занимал обширный тяжелый стол, окруженный неподъемными стульями. Внизу, под столом, нашлась удобная и широкая подставка для ног.
Отдуваясь, Мокий Кузьмич сел на председательское место. Одесную усадил Алекса, по левую руку — Грача, пригласил расположиться поближе нотариуса и Второго.
— В присутствии доверенных лиц я, Егоров Мокий Кузьмич, владелец ИЧП «Параскева», находясь в ясном уме и твердой памяти, передаю права на все имущество внуку моему Силе Алексеевичу Мотовилову одна тысяча девятьсот восемьдесят второго года рождения августа двадцатого дня. До достижения моим внуком совершеннолетия в две тысячи третьем году опекуном и доверителем назначаю его отца, то есть моего зятя Алексея Андреевича Мотовилова. В случае развода супругов все имущество ИЧП «Параскева» разделу не подлежит как принадлежащее единственно Силе Алексеевичу Мотовилову.
Примерно так была выправлена бумага, взвалившая на плечи Алекса, двадцатисемилетнего Президента Интернет-провайдерской российско-американской Компании, тяжкий груз из сотен разнородных предприятий, разбросанных по всей Руси. И как только Егорову удалось нахапать полные руки такого добра?
Ответы и догадки на эти вопросы мог бы отчасти подсказать портрет, что висел на белёной стене. Сходство с Мокием Кузьмичем было разительным. Сумрачный старик с белой колючей бородой, остриженный в кружок и причесанный на прямой пробор, в халате с куньей опушкой и толстой золотой цепью на груди, сердито смотрел вполоборота влево, опустив на колени руки — руки хозяина, украшенные обручальным кольцом и двумя перстнями.
Изображение было выполнено в манере провинциального семейного портрета, судя по всему, в начале восемнадцатого века; подобных ему характерных живописных полотен немало сохранилось в русских отдаленных музеях. Художник, как правило, оставался неизвестен.
Секретарша внесла подносы с напитками и угощением. Событие отметили, уважили. После этого хозяин попросил удалиться всех, кроме зятя.
Алекс молчал. Странное ощущение владело им. Словно из отдаления, со стороны увиделся ему изгиб его собственной судьбы, искривленный стариком Егоровым, изгиб предумышленный, но… но… не петлевой… Это слово закрепило легчайшее ощущение проблемы, чтобы не потерять ее в хаосе повседневности, но отработать в ближайших буднях.
— Что скажешь, зятек? — усмехнулся Егоров. — Нагрузил тебя на десять лет, словно срок дал. У тебя и своя ноша немалая. Потянешь?
Алекс молчал. Трех прекрасных сыновей не назовешь ловушкой, хотя замысел тестя обнаружил себя полностью.
— Справлюсь, — кивнул он.
— Глянь-ка сюда, Алекса.
Образованный человек, министр, Егоров словно снимал с себя весь политес, когда оставался наедине со своими.
Он тяжело подошел к шкафу, просунул руку в щель у стены. Нажал на что-то. Шкаф открылся, обнаружив идущие внутрь — вверх деревянные ступени.
— Ступай, пока не скрипнет. Фонарик не забудь.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь… Седьмая ступенька тихо скрипнула под ногой. Алекс замер.
— Плашечку справа чуешь? Сдвинь.
Алекс ахнул. В тайнике мигал огонек шпионского самописца! Выпускник МГИМО, он понимал в них толк. Эта модель принимала условный сигнал на расстоянии до пяти километров и шифровала на пленку. Одной заправки хватало на полгода.
— Внял, Алекса? Смени на свежую. Спускайся.
Заметя следы, они уселись за стол. Тесть молчал. Глаз его стал дергаться, левая щека перекосилась, в дыхании появились хрипы.
— Таблетки, таблетки, — он неуклюже полез в боковой карман пиджака.
Алекс дал ему запить из бокала. Мокий Кузьмич пришел в себя. Помолчал и заговорил спокойно, как человек, свершивший задуманное.
— Все, зятек. Теперь хочешь-не хочешь, тащить тебе этот воз и приумножать. В тебе я не сомневаюсь. Ты умен, но крылат, легковат для нас, грешных. Не сорвись. Время бежит, дети растут. Так.