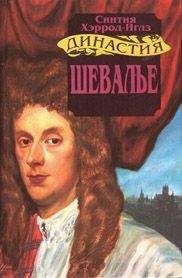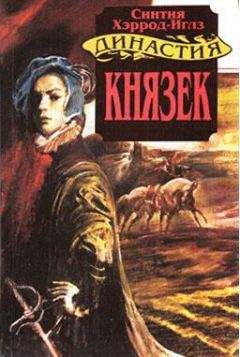– Была она счастлива?
– В самом деле, инспектор, – ошарашенно ответил Баттершоу, – откуда я могу это знать? У меня было крайне мало личных контактов с Анн-Мари, совсем недостаточно, чтобы научиться понимать, что она чувствует. Все, что я могу сказать – я не заметил, чтобы она была несчастна.
– Да, конечно. Продолжайте, пожалуйста, – спас его Слайдер из пучин этих неизведанных морей человеческих чувств. – Для чего же она хотела встретиться с вами?
– Она хотела узнать точно касающиеся ее условия завещания. Я рассказал ей...
– Секундочку, пожалуйста. Она спросила, каковы условия, или же она уже их знала и хотела лишь, чтобы вы подтвердили их?
– Я понял вас, – понимающе улыбнулся Баттершоу. – Насколько я помню, она сказала, что ей стало известно, что она не получит своих денег, пока не выйдет замуж, и она спросила меня, верно ли это. Естественно, я ответил, что это правда.
– И какова была реакция?
– Она ничего не сказала в первый момент, хотя и выглядела очень задумчивой и явно была недовольна, что вполне можно понять. Потом она спросила, нельзя ли как-нибудь обойти это условие, существует ли хоть какой-нибудь путь. Я сказал ей, что нет. И тогда она спросила: «Вы точно уверены, что единственный способ, которым я могу получить свои деньги – это выйти замуж?», или это были несколько иные слова, но с тем же смыслом. Я сказал «да», и она поднялась и ушла.
– И это все?
– И это было все. Я спросил, не могу ли сделать для нее еще что-нибудь, а она сказала, что нет. – Анемичная лошадь улыбнулась почти жульнически. – Кажется, она сказала «ничегошеньки», чтобы быть точным. – Улыбка исчезла, как кролик в норе. – Это был последний раз, когда я ее видел. Тяжело поверить, что бедное дитя погибло. Вы совершенно уверены, что это было убийство?
– Совершенно.
– Знаете, я спрашиваю, потому что мне было бы невыносимо думать, что она могла... могла наложить на себя руки из-за невозможности получить эти деньги. Это совершенно не входило в намерения ее деда.
– Мы убеждены, что это не было самоубийством. – Мысли Слайдера были уже далеко отсюда. – У мисс Остин были какие-нибудь родственники с отцовской стороны?
– Мне о таких ничего не известно. Ее отец был единственным ребенком в семье, это я знаю, значит, не должно быть ни теток, ни дядей, ни двоюродных родственников. Может быть, есть троюродные, но я о них никогда не слышал.
– А не было ли у нее родственников в Италии? Может быть, Остин был частично итальянцем?
– Я никогда не слышал ничего подобного, – озадаченно ответил Баттершоу, – но фактически я не имел с ним никаких дел. Наверное, об этом лучше спросить миссис Рингвуд.
– Да, конечно. Спасибо. – Слайдер встал, собираясь уходить. – Ваш секретарь назовет мне точную дату встречи?
– Конечно, конечно. – Баттершоу проводил его до двери, и Слайдер наблюдал за ним, пока он не распахнул перед ним дверь.
– Кстати, – спросил он уже стоя в двери, – собственность ведь велика, не так ли?
– Очень велика. Капитал был размещен весьма разумно. – И Баттершоу назвал сумму, от которой брови Слайдера поползли вверх.
– И кто же получит все это теперь, когда Анн-Мари мертва?
Теперь Баттершоу походил на несчастную больную лошадь, мучимую коликами.
– Миссис Рингвуд – единственная законная наследница.
– Понимаю, – сказал Слайдер. – Благодарю вас.
Слайдер вышел на улицу под бледные и негреющие лучи солнца и на мгновение остановился, моргая. Запутанность дела, как он чувствовал, близилась к своему разрешению. Ему уже виделся кончик нити, за который можно было ухватиться и начать распутывать весь клубок. Сестра, которую любили больше другой; ребенок этой погибшей сестры – беспомощное и несчастное дитя; исполнительная вторая дочь, которую никогда не ценили должным образом, принужденная заботиться о ребенке своей соперницы, из-за которой она была обделена отцовской любовью; деньги, которые могли бы полностью принадлежать ей, и теперь ей наконец достались. Чего же удивляться, что ей не хотелось говорить об этом, подумал он. Но наличие мотива еще не решает дела. Все равно...
Вдруг он вспомнил о Джоанне. Будучи поглощенным разговором с Баттершоу, он совершенно забыл о ней. Это, кстати, было одной из причин, по которым он любил свою работу: она поглощала его полностью, становясь, таким образом, его убежищем, единственным местом, где он укрывался от изматывающих мыслей о своей жизни.
Но возврат к мыслям о Джоанне был освежающим и обновляющим. Она сидела за окном чайной, выбранной ими в качестве места встречи, и пока не заметила его, и он воспользовался этим, чтобы еще раз рассмотреть ее. Лицо ее было для него уже знакомым, но сейчас он всматривался в ее черты, освещенные безжалостным солнечным светом, высвечивавшим все округлости, впадинки и морщинки и выявлявшим полностью ее индивидуальность. Он мог видеть на ее лице свидетельства жизненного опыта – опыта, полученного без него и до него. Она жила, и жизнь оставляла на ней свои отметины. Она провела, вероятно, половину своей взрослой жизни без него, а он – больше половины своей без нее. Из всех возможных тысяч дней и ночей они провели вместе только одну ночь. И несмотря на это, глядя на нее, он ощущал необычайно сильное чувство их принадлежности друг к другу. Значит, все так, как оно есть, подумал он. Его место было по ту сторону стекла, рядом с ней, плечом к плечу против надвигающегося прилива остального мира, и, черт возьми, не имело ровно никакого значения, что он не знал ничего из того, что знала она: зато он знал ее саму.
Она заметила его. Ее взгляд сфокусировался на нем, она улыбнулась, и он зашел в чайную.
Солнечный или нет, но это был все же январь, и сгущающиеся сумерки подействовали на их настроение по дороге назад в Лондон. Слайдер неохотно высказал это настроение вслух, подъезжая к ее дому.
– Сегодня я обязан приехать домой не очень поздно. – Она слегка отвернулась от него, и он понял, что сделал ей больно, отчего стало больно и ему самому. – Но мы могли бы заехать куда-нибудь быстро перекусить, если хочешь, – добавил он поспешно.
Она вновь повернула к нему голову и открыто посмотрела ему в лицо.
– Нет, это было бы пустой тратой времени. Давай выпьем и закусим у меня, если хочешь. Я разведу огонь.
– Мне надо сделать несколько звонков, – сказал он и торопливо уточнил, – позвонить Атертону и в участок. Я не звонил весь день.
– Все в порядке, – ответила она. – Ты должен делать то, что нужно.
Но когда они вошли, телефон уже звонил, и она, подбежав к нему, успела снять трубку до того, как включился автоответчик. Слайдер почувствовал холодок на коже еще до того, как она вежливо произнесла что-то в трубку и протянула ее ему.
– Это тебя, – сказала она. В холле было слишком темно, чтобы он мог различить выражение ее лица, но ее интонация достаточно ясно показала ему, что она поняла – для них этот день уже кончился.
– Это ты, Билли? – Звонил О'Флаэрти. – Господи, мы разыскиваем тебя весь день. Атертон сказал, что ты можешь быть здесь. Иисусе, ты где сейчас, у какой-то старой совушки, а?
– О чем ты, Пат? – Слайдер удержал себя от резкого ответа.
– Ах, мир – это колесо Фортуны, вот о чем, – загадочно заметил в ответ О'Флаэрти. – Ладно, извини, что порчу твою преднамеренную ложь, но тебе лучше немедленно приехать сюда, мой красавчик Билли, и поблагодари Бога и Голубоглазого Малыша, что мы не позвонили твоей собственной леди спросить, где ты можешь быть. – Голубоглазый Малыш была кличка, которой О'Флаэрти именовал Атертона. Они обычно выказывали друг к другу заметное, но не враждебное презрение.
Смешанное чувство облегчения, разочарования и опасения произвело свое действие на Слайдера, и он торопливо спросил:
– Ради Бога, Пат, что стряслось?
– Старуха, миссис Гостин. Они пытались разбудить ее целый день, и забеспокоились, когда день прошел, а она так и не появилась. Тогда Голубоглазый Малыш влез через окно и нашел ее на полу – мертвую.
Трубка в его руке вдруг стала скользкой и холодной. В темноте неосвещенного холла он видел глаза Джоанны, лицо ее, казалось, куда-то поплыло в тенях. Она потянулась к выключателю и включила свет, и все опять стало обыкновенным, только Слайдер вдруг ощутил сильную усталость.
– Как это случилось?
– Ну, она могла поскользнуться, упасть и удариться головой о каминную решетку, – ответил О'Флаэрти, сделав ударение на слове «могла» и тем самым сообщив Слайдеру все то, что ему было нужно.
– Я уже еду, – сказал Слайдер.
Джоанна повернулась и пошла в кухню, что он расценил как ее способ дать ему попять, что она освобождает его от забот о ней. Их день был окончен; но под поверхностью его немедленных реакций все еще укрывались мир и покой, потому что там была она, и потому, что они оба чувствовали то, что они чувствовали друг к другу, а это означало, что они могут по разным причинам не иметь возможности быть вместе какое-то время, но это ничего между ними не изменит, и потому все было действительно хорошо, разве не так?