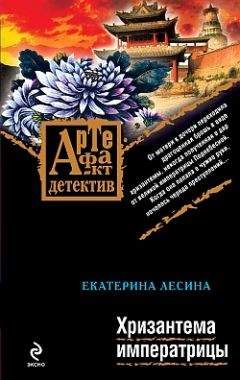Ознакомительная версия.
Все изменилось в один день. И начались перемены с пустяка, со щегольской черной «Волги», которая подъехала прямиком к подъезду и, развернувшись, стала на клумбе, раздавив только-только распустившиеся петунии, сочные клубочки молодила да высокие хрупкие кусты водосбора. И Клавка, и Манька, и наблюдавшая за ссорой Федина от подобного нахальства замерли. А когда отмерли, никто не сказал ни слова: из машины вышли дети. Нет, они приехали не одни, с моложавой, упакованной в штруксовый костюм и шляпку-таблетку дамочкой, с солидного вида господином в белом пиджаке, с шофером, который суетился вокруг авто, извлекая один за одним рыжие чемоданы.
Но эти люди были пусть и необычны, но неинтересны. Другое дело дети. Старший как раз такой, каковым представляла собственного сына Клавка – подросток, стройненький, курносенький. И аккуратный – вон, на костюмчике ни складочки. И в очочках – значит, умный, и портфельчик держит бережно...
А Манька с девочки глаз не спускала: лет пять с виду, а прехорошенькая – сил нету. Волосики мелким бесом вьются, глазенки что твои озерца, губки бантиком. И в платьице нарядном, с оборочками да кружевцами, в носочках беленьких да туфельках розовых.
Федина же сразу решила, что лучше всех младшенький, настоящий херувимчик, каких на иконках малюют. Пухленький, очаровательно-неуклюжий, стоит, ладошкой в бок машины упершись, кулачок в рот сунув, да глядит так испуганно.
– Ах ты, мой хороший, – сказала Федина, протягивая руки. И мальчишечка, радость-то какая, пошел к ней, косолапенький, кривоногий, по-детски трогательный.
Она как-то сразу забыла и про даму в костюме, и про ее супруга в белом пиджаке, и про шофера с чемоданами, и уж подавно – про очередную кошачье-домуправовскую ссору. Этот мальчик был ее. Он не мог, не имел права принадлежать еще кому-то...
– Слава! – воскликнула женщина, подхватывая съехавшую с плеча сумочку. – Слава, нельзя! Иди сюда, немедленно! Вацлав, ты обещал, что найдешь няню...
– С детьми посидеть? – тут же встрепенулась Клавка, выпуская кошака – тот, плюхнувшись на землю, воззарился на хозяйку с недоумением. – Я по всему соседка. Из третьей квартиры. И свободная сегодня.
Дама вымученно улыбнулась, с надеждой глянула на мужа, тот пожал плечами. А Федина поняла, что ненавидит – и приезжих, ну кроме детей, конечно, и Клавку, оказавшуюся слишком уж умной. Это она, Федина, должна была додуматься, это ей бы разрешили посидеть с детьми, и она постаралась бы, сумела сделать так, чтоб этот раз стал не последним.
А Клавка все испортит. У Клавки шесть кошек, а кошки – это блохи, клещи и лишай с псориазом. Нельзя ее к детям, нельзя... но мужчина, протянув руку, представился:
– Вацлав Сигизмундович, это Элька, моя супруга. Сергей, Дарья, Милослав.
– Клавдия, – сказала Клава, покраснев от завитой макушки до выглядывавших из шлепанцев пяток.
– Мария.
– Анжелика, – гордо представилась Федина, впервые в жизни порадовавшись необычному имени. А что, ничем не хуже Эльки. Или Дарьи. А мальчика, значит, Милославушкой зовут, Милочкой.
Он и вправду очень мил.
* * *
Приезжие поселились в пятой квартире, чем вызвали резкое оживление давно было поутихших споров. Камнем преткновения являлись многие вещи, невозможные и удивительные. Взять хотя бы тот факт, что занимала квартира весь этаж, так мало того, на протяжении лет пяти она пустовала, и выяснить, кто ж таки был приписан на этих огромных площадях, не удавалось. В прояснении вопроса не помогла и коробка конфет «Ассорти», поднесенная паспортистке, ни бутылка «Столичной», исчезнувшая в ящике сантехника из ЖЭКа, ни даже близкая родственница Клавы, работавшая в горсправке.
Время от времени кто-либо из жильцов дома, либо же родственников, либо и вовсе случайных знакомых, прознавших про пустующее жилье, принимался строить планы по захвату территории, собирал справки, подписи, строчил петиции и доклады, но все усилия оказывались тщетны – пятая квартира хранила верность отсутствующим хозяевам. И вот они вернулись.
– Вот посмотрите, – шептала Федина Клавке. – Сейчас пообживутся и на шею сядут. Элька-то та еще фифа, мужем крутит, как хочет. А он – ну точно бревно.
– Погляди-погляди, – журчала она на ухо Маньке. – Скоро устроятся, начнут нас выселять. А что, дом-то непростой, а где одна квартирка из особых, там и другая, и третья...
И Клавка, и Манька соглашались. Ворчали, высаживая вместо раздавленных петуний новые, привезенные с дач и уже цветущие. Вздыхали, глядя, как те сохнут, несмотря на полив и заботу. Вежливо здоровались с новой соседкой, подсматривали за детьми.
Те почему-то очень редко появлялись во дворе, хотя Клавкин супруг качели соорудил, а Манькин о песочнице заикнулся, по-простому, по-соседски. Оказалось: без надобности.
Детей жалели. Элегантную Эльку осуждали, а к Вацлаву Сигизмундовичу относились с почтительным уважением, особенно после того, как в доме крышу отремонтировали, причем сделали это быстро и на удивление хорошо. Верно, не обошлось без звоночка сверху.
В общем, постепенно к соседям попривыкли, перестали обращать внимание, позабыли и про детей, и про петунии, вернулись к былым проблемам и развлечениям. И только Федина все не находила сил успокоиться. Она высматривала, прислушивалась, собирала осколки сплетен, обрывки разговоров, мечтая, как в один прекрасный день из пятой квартиры исчезнет красавица-Элька, а освободившееся место – достойное, хозяйское и, что гораздо важнее, материнское, займет она, Анжела Федина.
Она опасалась говорить об этих мечтах вслух, не потому, что муж услышит – его уже давно ничего не интересовало, кроме пива-водки-футбола-шашек в соседнем дворе – боялась Федина иного: открой рот и подслушает кто-то безымянный, безызвестный, а подслушав, извратит сказанное так, что в жизни не сбудется. А если и сбудется, то на горе.
Так оно и вышло. День, когда не стало Эльки, был премерзостным: с самого утра рядил дождь, сбивая с клена лопухи желтых листьев, просачиваясь сквозь рамы и разливаясь по подоконнику грязной лужицей, в которой плавали мелкие щепочки и пылинки. Пришлось тряпку класть и отжимать каждые полчаса, и материть супружника – у нормального мужика, небось, окна не текут.
С водой она боролась до серых сумерек, а потом бросила, села у окна, пнула сердито ведро с водой, скинула на пол скрученное жгутом полотенце и уставилась на улицу. Думалось о судьбе, о жизни, о том, что в свои тридцать три она достигла всего, чего хотела, и дальше остается и не жить, а тихо стареть на работе ли, среди тетрадок, учебников и чужих детей, которые в отличие от Милочки не вызывали иных чувств, кроме раздражения. Или же дома в бесконечной уборке-стирке-утюжке-готовке. Замкнутый круг, нарисованный ею для себя, был столь ужасающе реален, что Федина заплакала.
А потом плотную мглу прорезали фары, сначала одного автомобиля, потом другого. Полосы света пересеклись и легли во дворе огромным желтым крестом, в центре которого вырисовалась урна. Из машин вышли люди, спустя долю мгновенья громко хлопнула дверь в подъезде, и по лестнице застучали каблуки. Громко. Страшно. Упреждающе.
Федина замерла. Она, не верящая в предчувствия, вдруг отчетливо поняла – случилось. Что и с кем? Где и когда? Не важно, главное, случилось. Главное, теперь ей жить иначе.
Смолкли шаги и секундную тишину, в которой единственным звуком было лишь звонкое хлюпанье стекающих с подоконника капель воды, нарушил звонок.
На пороге, в раскрытом плаще, мокром и мятом, сжимая в руках фуражку, переминался с ноги на ногу молодой милиционер.
– А вы кем Федину Ивану приходитесь? – спросил он.
Похолодело. Скрутило тугим узлом внутренности, а губы сами выдохнули:
– Женой...
Милиционер молчал, вглядываясь в заплаканное лицо Анжелы, а потом, облегченно вздохнув, сказал:
– Так, значит, вам уже сообщили, да?
– О чем сообщили?
...о том, что Ванька разбился. Пара стопарей, халтура, перегруженная машина, мокрая дорога, плохая видимость... перекресток. И Ванька разбился.
Насмерть.
И Элька тоже. Она была в той, другой машине, невиноватая в происшествии, но тем не менее мертвая.
Невозможное становилось возможным.
Выбежав на улицу, Леночка остановилась. Щеки ее горели, ноги дрожали, а ладони неприлично вспотели, и Леночка торопливо вытерла их о юбку. Ужас-ужас-кошмарище! Вот это тип! Она же не нарочно, она просто спешила, вот и не заметила, вот и налетела... Лестница в доме узкая и темная, а тип – высокий и широкий, как тот шкаф, который в спальной стоит и надо бы передвинуть, но куда передвигать – не понятно, как не понятно и то, кто этим заниматься станет.
Ознакомительная версия.