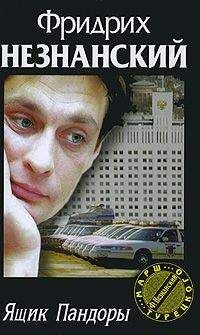С подносами в руках, они самообслуживались в длинной очереди в кассу в столовой Мосгорпрокуратуры. В столовой было жарко, пахло кислым, да и мух могло быть поменьше. Проголодавшиеся во время затянувшейся речи прокурора Москвы поборники щита и меча толкались у раздаточной. Позади Турецкого старый криминалист Семен Семенович Моисеев объяснял секретарю следственной части Клаве новейшие способы определения фальшивых денег. Впереди Бабаянца следователь по особо важным делам Гарольд Чуркин никак не мог выбрать подходящий по внешнему виду винегрет, брал мисочку с подозрительной смесью, нюхал и тут же ставил ее обратно.
— Эй, Чайлд Гарольд, подсуетитесь, пожалуйста, ваша светлость, а то мы умрем голодной смертью! — крикнул ему Турецкий.
Чуркин оставил в покое винегреты и двинулся к кассе. Бабаянц поставил на поднос блюдечко с винегретом, тарелки с харчо и рубленым бифштексом, стакан морса. Турецкий решил повторить набор, но не тут-то было: харчо и бифштекс на нем закончились, оставшаяся порция винегрета имела несъедобный вид, а вместо морса теперь шел чай с лимоном.
— Я слышал, тебе передали мое дело — по Татьяне Бардиной.
— Да, Меркулов мне удружил, выделил его из общего дела славных мафиозников, где Бардин, кажется, играет не последнюю роль. Мне с беглого взгляда кажется, что и в этом деле он главный фигурант, если и не прямой убийца...
— Если хочешь, я введу тебя в курс,— перебил его Бабаянц серьезным голосом,— но вообще-то я веду одно вонючее дело...
Они подошли к кассе, где снова суетился Чуркин.
— ...ло почтовому ящику Сухова. Мне побыстрее надо с этим дерьмом разобраться.
Они расплатились, отыскали чудом оказавшийся свободным столик на двоих у самого выхода.
— Ну, про Сухова тебе неинтересно. А дело по факту смерти Татьяны Бардиной мне практически вести не дали, то одно дело подсовывали, то другое, и наш Мухомор в этом очень преуспел, ведь сам гражданин Бардин — друг нашего Зимарина. Это еще было в Москворецкой прокуратуре, у нас тогда Зимарин был районным прокурором. В общем-то тоже дело не ароматное.
Бабаянц отошел от столика, на котором разместил свой обед, и через минуту вернулся, неся стакан морса и тарелку с бифштексом. Чуркин толкался с подносом между стульев, не мог найти свободного места и наконец примостился к кому-то пятым за столик, за спиной Бабаянца.
— Я сказал нашей поварихе, что тебя пригласили сниматься в детективе Юлиана Семенова, в главной роли. А натощак ты нефотогеничен.— Бабаянц протиснулся к своему стулу.— Но с харчо номер не прошел: осталось четыре порции для начальства. Так что поклюй из моей тарелки.
Но Турецкий не стал «клевать», а пока Бабаянц хлебал желтую рисовую жижу, спросил:
— И что дальше по этому неароматному делу? Бабаянц тыкал вилкой в бифштекс и выкладывал из кусочков жесткого мяса геометрическую фигуру. Турецкий допил до донышка кислый морс, наблюдая за Бабаянцем.
— Понимаешь, я уверен, что это убийство. В этом деле все представлено иначе. Но когда замешаны высокопоставленные чины, то все и выглядит иначе. А уж если наши боевые соратники из так называемых правоохранительных органов взялись за дело не с той стороны, с какой им положено, то жди самых больших неожиданностей... Знаешь что, Сашка, не будем сейчас об этом, я к тебе в воскресенье нагряну на обед. Тем более — у тебя, кажется, день рождения. Тогда все обсудим... Ну, ты покончил со своим королевским обедом? Тогда прощаюсь с тобой до воскресенья.
Они вышли в коридор, пожали друг другу руки:
— Короче, за эти дни я напрягу свою могучую память. Может, что-то и вспомню пользительное.
Хохмач Бабаянц вообще-то был человек серьезный. Если сказал — что-то вспомнит, значит, обязательно придет с информацией.
Вот так — медленно допить коньяк, прикурить сигарету от свечки и... Что делать дальше, Ника не знала. Но неловкость, овладевшая ею с приходом гостей, начала понемногу ослабевать, и она снова и снова допивала до дна бокал, услужливо наполняемый сидящим напротив красивым человеком, от которого исходил приятный залах незнакомой парфюмерии. Пространство и время уплыли в бесконечность, и Ника подумала — не так уж и противно будет пойти с ним в постель. Они танцевали под что-то медленное, Ника прижималась щекой к сильному плечу и послушно кивала в ответ на ничего не значащие слова.
Потом все стало на свои места, потому что исчез незнакомый аромат. Бородатый художник Жора поил Нику кофе из огромной кружки и поправлял шелковые бретельки комбинезона, то и дело сползавшие с ее голых плеч. Пламя свечи отражалось в стеклянной двери спальной ниши, где полагалось в это время спать Кешке и где его сегодня не было по причине пятницы, «папиного дня». Ника протянула руку, поскребла ногтями по стеклу:
— Никого мне не надо, кроме моего маленького.
Толстая Алёна вздохнула:
— Хронический случай.
— А жаль, силен был мужик... этот... как его — Бил,— сказал Жора, стараясь дотянуться сигаретой до свечи.
— Странно, куда же это он сбежал,— произнес задумчиво Сеня Штейнбок и стал накладывать в тарелку свекольный салат.
Нике хотелось заплакать — и от всех этих слов, и от выпитого коньяку, и от того, что Кешки не было дома, и просто потому что жизнь не удалась. Но бородатый Жора уронил свечку, Алена разбила стакан, а Сеня вывалил салат на новое платье супруги.
«Господи, ну что же это я! — подумала Ника.— Ведь хорошо-то как!» И прожженая скатерть, и разбитый хрусталь, и Милкино навсегда испорченное «валютное» платье,— об этом надо было беспокоиться и вспоминать десятки подобных и совершенно других историй о свечах, салатах и еще Бог знает о чем, пить — в который-то раз — за Никино двадцатидевятилетие, Кешкино послушание, перестройку и гласность, новый бампер Алёниного «форда», петь давно забытые всеми идиотские песни о мальчике, ковыряющем в носу, и голубых пижамах города Сухуми. О пижамах, правда, пелось уже на лестничной клетке шестого этажа в ожидании лифта.
Ника постояла на углу дома, проводила взглядом разноцветные огни лимузина и пошла домой, не очень уверенно ступая высокими каблуками по разбитому асфальту. Она заметила, как переглянулись в лифте соседи с седьмого этажа — надралась дамочка, и как. можно более независимо прошагала от лифта к двери. С-дверью было что-то неладно, она открылась без ключа, подалась от прикосновения ладони. Ника пошарила по стене рукой, привычно щелкнул выключатель. Успела подумать — как же так, она оставила свет в коридоре, но больше думать было ни о чем невозможно, потому что на полу маленькой прихожей лежал, растянувшись во весь громадный рост, ее недавний знакомый со странным именем Бил, и был он сейчас абсолютно мертв, как может быть мертвым человек, у которого отсутствует значительная часть головы, а то, что от нее осталось, не принадлежало телу полностью, потому что отделялось от него глубокой кровавой бороздой...
* * *
Павел Петрович Сатин с ненавистью смотрел на экран телевизора. Как только лицо нового партийного босса Москвы наплывало крупным планом, он с остервенением жал кнопку дистанционного управления, переключая телик на программу с прямой трансляцией из Соединенных Штатов Америки соревнований по гимнастике. Но спорт он ненавидел еще больше — вот уже более тридцати лет он работал в системе Мосспортторга, из которых последние десять руководил им единолично. Сатин снова надавил на кнопку. Там, в катодной трубке, разыгрывался спектакль, записанный сегодня утром на пленку, действующими лицами которого был партийно-хозяйственный актив столицы с первым секретарем горкома партии в главной роли. Павел Петрович со злостью выключил телевизор и оказался в полной темноте. Сатину стало страшно. До выключателя надо было пройти метров пять, а то и шесть — дачу он себе отгрохал будь здоров, теперь сиди и трясись за железными ставнями. Он пялил глаза, но ничего не мог разглядеть. Почудилось — кто-то крадется к дому с финяком в руке. Страх вжал его в глубокое кресло, он боялся дышать. Старался различить в слабых шорохах летней ночи шаги жены, но до соседней дачи, куда она отправилась играть в кинга, было добрых метров двести. Когда страх стал просто непереносимым, Сатин вспомнил, что можно нажать кнопку дистанционного управления. Из телевизора в него пальнуло громом аплодисментов, но экран тут же высветился, и Павлу Петровичу полегчало.
Он увидел себя на экране, во втором ряду зала, но узнал не сразу — неужели это он, такой старый, толстый и даже какой-то помятый. Да собственно, не все ли равно, если всему скоро наступит конец — и даче с железными ставнями, и телевизору с управлением на расстоянии, да что там телевизору — вообще всей жизни наступит каюк, потому что ему грозит по меньшей мере десять лет тюрьмы, и это будет еще очень хорошо, стольких людей уже шлепнули, а сколько еще шлепнули сами себя, и никто его из этого дерьма не вытащит, а его пасынок, этот сучонок Сашка, следователь херов, так и сказал своей матери — «твоего Сатина из дерьма вытаскивать не буду». А Павел Петрович еще и своим подельникам обещал — не бойтесь, Ленуськин сынок вытащит, не хухры-мухры — старший следователь Московской городской прокуратуры, Александр Борисович Турецкий! А теперь этим сукам, вроде Гдляна и Иванова, да и его пасынок Сашка недалеко от них ушел, до всего есть дело. Один дружок уже дождался «помощи» — Юра Соколов, директор «Елисеевского», что за мужик был, уже восемь лет в земле гниет по милости Сашкиного начальника Меркулова, перестройщика вроде вот этого, на экране, чистоплюи, сукины дети, повылазили из своих норок, вшивота, розовыми пальчиками фужерчики — с перестройкой вас, Павел Петрович! А на хрен нам эта перестройка!