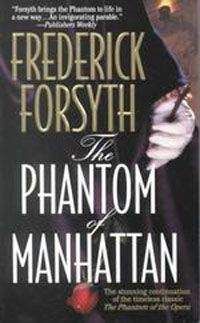– Но ведь Эрик так и не был найден, дитя моё? Никакого следа Призрака, как я, кажется, слышал.
– Нет, Отец мой, они не нашли его. Но я – да. Я вернулась в одиночестве в мою маленькую служебную комнатку позади комнаты хористов. Когда я откинула занавеску моей гардеробной ниши, он был там; сжимая в руке маску, которую он всегда носил, даже когда был один, отсиживаясь в темноте, как он, бывало, сидел под лестницей в моей квартире одиннадцать лет назад.
– И вы, конечно, известили полицию…
– Нет, Отец мой, не известила. Он всё ещё оставался моим мальчиком, одним из моих двух мальчиков. Я не могла опять отдать его в руки толпы. Тогда я взяла женскую шляпу и густую вуаль, длинный плащ… мы спустились бок о бок по служебной лестнице и вышли на улицу, просто две женщины, бегущие в ночь. Там была куча народу. Никто ничего не заметил.
Я прятала его три месяца у себя дома, в полумиле оттуда, но объявления о розыске были везде. С указанием цены за его голову. Он должен был покинуть Париж, покинуть Францию навсегда.
– Вы помогли ему бежать, дитя моё. Вот что было преступлением и грехом.
– Я заплачу за них, Отец мой. Скоро. Та зима была жестокой и холодной. О поезде нечего было думать. Я наняла дилижанс: четыре лошади и закрытый экипаж. В Ле Гавр. Там я оставила его спрятанным в съёмной маленькой квартирке, пока я рыскала по портовым докам и грязным кабакам. Наконец я отыскала морского капитана, владельца маленького грузового судна, направлявшегося в Нью-Йорк, который взял плату и не задал вопросов. Так, в одну из ночей в середине января 1894-го, я стояла на краю длиннейшего причала и смотрела, как кормовые огни бродяги-пароходика исчезают во тьме, направляясь в Новый Свет. Скажите мне, Отец мой, есть здесь кто-нибудь ещё? Я не вижу, но я чувствую кого-то ещё.
– Действительно, здесь человек, который только что вошёл.
– Я Арман Дюфор, мадам. Записка, доставленная в мою контору, извещала, что во мне здесь нуждаются.
– Вы нотариус и можете заверять?
– Да, конечно, мадам.
– Монсеньер Дюфор, я хочу, чтобы вы заглянули под мою подушку. Я могла бы сделать это сама, но я стала слишком слабой. Спасибо. Что вы нашли?
– Ну, какое-то письмо, вложенное в чудный конверт из манильского пергамента. И маленькую замшевую сумку.
– Совершенно точно. Я хочу, чтобы вы взяли перо и чернила и надписали поверх запечатанного клапана конверта, что сегодня это письмо было передано под вашу ответственность, и не было открыто ни вами, ни кем-то ещё.
– Дитя моё, я умоляю вас поторопиться. Мы не завершили наши дела.
– Терпение, Отец мой. Я знаю, что у меня мало времени, но после стольких многих лет молчания я должна теперь постараться завершить одно дело. Вы сделали, монсеньер нотариус?
– Оно было надписано в точности, как вы пожелали, мадам.
– А на лицевой стороне конверта?
– Я вижу написанные, несомненно вашей рукой, слова: «Месье Эрик Мулхэйм, Нью-Йорк».
– А маленькая замшевая сумочка?
– Она в моей руке.
– Откройте её, пожалуйста.
– Nom d’un chien! Золотые наполеондоры! Я не видал их с тех пор, как…
– Но они до сих пор имеют ценность?
– Безусловно, и большую ценность.
– Тогда я хочу, чтобы вы их взяли – всё золото и письмо – и поехали в Нью-Йорк, и доставили письмо. Лично.
– Лично? В Нью-Йорк? Я обычно не… я никогда не был…
– Пожалуйста, монсеньер нотариус. Здесь достаточно золота? Для пяти недель, на которые вы оставите офис?
– Более чем достаточно, но…
– Дитя моё, вы не можете знать, жив ли ещё этот человек.
– О, он должен был выжить, Отец мой. Он всегда выживет.
– Но у меня нет его адреса. Где я найду его?
– Спрашивайте, монсеньер Дюфор. Изучите иммиграционные списки. Имя достаточно редкое. Он будет где-то там. Человек, который носит маску, чтобы скрыть своё лицо.
– Очень хорошо, мадам. Я постараюсь. Я поеду туда и постараюсь. Но я не могу гарантировать успеха.
– Спасибо. Скажите мне, Отец мой, не давала ли мне одна из сестёр ложку настойки белого порошка?
– В течение того часа, что я здесь – нет, ma fille. Почему ты спрашиваешь?
– Это странно, но боль ушла. Как прекрасно, какое облегчение! Я не вижу, что вокруг, но я вижу что-то вроде туннеля и арки. Моё тело испытывало такую боль, но теперь она не грызёт меня больше. Было так холодно, но теперь здесь теплее и теплее.
– Не медлите, монсеньер аббат! Она покидает нас.
– Спасибо, сестра. Надеюсь, я знаю мои обязанности.
– Я прохожу через арку, там, в конце, свет. Такой ласковый свет. О, Люсьен, ты здесь? Я иду, любовь моя!
– In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti…
– Поторопитесь, Отец мой!
– Ego te absolve ab omnibus peccatis tuis.
– Благодарю вас, Отец мой.
Апартаменты Пентхауса, E.M. Tower, Park Row, Манхэттен, октябрь 1906
Каждый день, летом и зимой, дождь ли или солнечно, я просыпаюсь рано. Я одеваюсь и выхожу из своих апартаментов на эту маленькую квадратную террасу на крыше самого высокого небоскрёба в Нью-Йорке. Здесь, в зависимости от того, на какой части террасы я останавливаюсь, я, обратив взор на запад, могу смотреть через Гудзон на открытые пространства зелёных полей Нью-Джерси. Или на север, в направлении Средней и Верхней части этого удивительного острова, столь полного богатства и грязи, экстравагантности и бедности, порока и преступления. Или на юг, в сторону открытого моря, которое ведёт назад, к Европе и той полной горечи дороге, по которой я прошёл. Или на восток, пересекая реку, к Бруклину и теряющейся в морском тумане, безумной обособленной территории, зовущейся Кони-Айлендом – истинному источнику моего преуспеяния.
И это я, кто провёл семь лет, терроризируемый грубым папашей, девять – прикованным, как животное в клетке, одиннадцать лет – как изгой в подвалах под Парижской Оперой и десять лет – пробиваясь из рыбных отбросов Грейвсенд Бей к настоящей известности: известно, что теперь я имею богатство и силу, превосходящие все мечтания Крёза. Так я смотрю вниз, на этот город, раскинувшийся подо мной, и думаю: как я ненавижу и презираю тебя, Род Человеческий.
Это было долгое и тяжкое путешествие, приведшее меня сюда в первый день года 1894-го. Атлантика бушевала штормами. Я лежал в своём гамаке, смертельно страдая, этот рейс был подготовлен для меня тем единственным добрым существом, какое я когда-либо встречал, лежал, терпя насмешки и оскорбления экипажа корабля, зная, что они могли, недолго думая, мгновенно вышвырнуть меня за борт, если я посмею ответить, лежал, сгорая от ярости и ненависти к ним всем. Четыре недели мы крутились, тяжело прокладывая наш путь через океан, пока одной горькой ночью в конце января море не успокоилось, и мы бросили якорь в Роудс, десятью милями южнее острова Манхэттен.
Ничего этого я не знал, за исключением того, что мы прибыли. Куда-то. Но я слышал, как члены команды со своим бретонским акцентом переговаривались друг с другом о том, что на закате мы могли бы зайти в Ист-Ривер и войти в док для таможенной проверки. Тогда я понял, что могу быть вновь обнаружен; разоблачён, унижен, отвергнут как иммигрант и отослан назад в цепях.
На рассвете, когда все спали, включая пьяного ночного вахтенного, я взял с палубы заплесневелый спасательный пояс и перешагнул за борт – в холодное море. Я видел, как во мраке тускло светят огни, но как далеко от меня они находятся, я не знал. Но я заставил своё окоченевшее тело плыть по направлению к ним и час спустя выполз на покрытый галькой заиндевевший берег. Я не знал этого, но мои первые шаги в Новом Свете были сделаны по пляжу Грейвсенд Бей, Кони-Айленд.
Огни, которые я видел, исходили от мерцающих масляных ламп в окнах каких-то нищих лачуг, находящихся на пляже за линией прилива. И когда я направился к ним и заглянул в грязные окна, я увидел ряды тесно сидящих людей, чистящих и потрошащих рыбу. Чуть ниже линии хижин было пустое пространство, посредине которого горел большой костёр, а вокруг него сгрудились несколько несчастных, сидящих на корточках людей, пытающихся впитать своими телами тепло костра. Полумёртвый от холода, я знал, что также должен подойти к костру и погреться, иначе я замёрзну досмерти. Я вошёл в круг света от костра, ощутил волну жара и посмотрел на людей. Моя маска была спрятана в моей одежде, и моё ужасное лицо освещалось языками пламени. Все обернулись и уставились на меня. Едва ли я когда-либо смеялся в своей жизни, для смеха никогда не было причины, но этой ночью, на этом жутком холоде, я смеялся про себя – от облегчения. Все они посмотрели на меня… и не выказали интереса. Так или иначе, но каждый из них был обезображен. По чистой случайности я стал участником ночного сборища отбросов Грейвсенд Бей, изгоев, которые могли зарабатывать на свою жалкую жизнь лишь тем, что потрошили рыбу, пока рыбаки и остальной город спали.