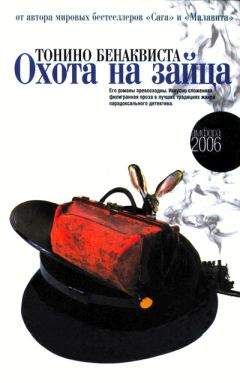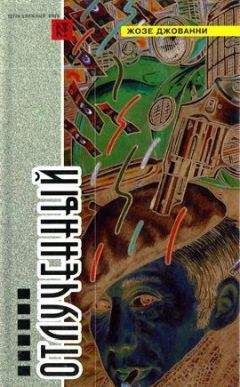Я не приеду сюда в воскресенье.
У Дарио Тренгони больше нет нужды просить меня о чем бы то ни было.
Я возвращаюсь домой.
В Париж. И дорога моя длинна.
Выйдя на свой балкон, я обшариваю взглядом окрестности, силясь рассмотреть сквозь лес антенн шпиль Нотр-Дам. Когда я сюда еще только-только вселялся, бывший жилец меня уверил, что как-то раз видел его в ясную погоду часов в десять утра. Я живу напротив «Салонов Ларош». Веселенькое местечко. Его снимают для буйных вечеринок — таких, на которых дым стоит столбом, в том числе валит из ушей соседей, и я, пожалуй, единственный на этом берегу житель, который ни на что не жалуется. Я как раз собираюсь усесться на табурет, когда какая-то женщина с террасы напротив, видимо уборщица, пытается меня убедить этого не делать.
— Довольно неразумно, в вашем-то возрасте. А представьте, что тут летом будет твориться.
Услышав шуршание циновки у двери, сообразил, что принесли почту. Подождал, пока консьержка не удалится. И вот как раз в тот самый момент, когда я уже открывал дверь, зазвонил телефон. Но я все-таки успел заметить эту неподвижную штуковину — такую бело-черную, что она буквально ослепила меня, когда я собрался протянуть к ней руку.
Звонок настаивает.
На том конце провода — голос одной из моих сестер. Я назвал ее Кларой, но оказалось — Иоланда. Отец бы сказал — Анна. Один шанс из трех, что угадаешь, но почему-то всегда проигрываешь.
— Антуан… знаешь что?
— Умер кто-нибудь?
— Так ты уже знаешь?
Я прошу ее подождать минутку.
Сердце мое начинает бешено колотиться, и я иду к двери, чтобы поднять наконец с полу эту штуку с черной каймой. Внутри — мертвец, и мне достаточно лишь вскрыть конверт, чтобы обнаружить его имя. Я колебался еще секунду, держа телефонную трубку в одной руке и траурное извещение в другой. Услышать или прочесть? Наверняка и то и другое вызовет у меня тошноту, хотя я еще и не совсем понимаю почему.
Нет, неправда. Наоборот, слишком даже хорошо понимаю почему. Потому что мы с этим покойником уже умирали не одну тысячу раз на полях сражений и неизменно приканчивали друг друга, когда кавалерия не успевала прибыть вовремя. И еще мы с ним стрелялись на дуэли, с десяти шагов, по очереди. И после каждого удачного выстрела застывали секунды на три, прежде чем рухнуть на землю.
И ведь надо же такому случиться перед самым летом.
— Это Тренгони, — говорю я в трубку.
— Я вчера видела его мать, когда навещала родителей. Пойдешь на похороны? Она очень хотела, чтобы ты пришел, эта мамаша Тренгони.
— Зачем?
— Как это зачем? Ну и гад же ты, раз такое спрашиваешь! Вы же дружки с ним были, разве нет?
Потом она рассказала мне, как Дарио умер. Но я не захотел этому поверить. Друзья детства так не умирают. Друзья по вестернам тем более.
*
Мамаши, мамаши, целая уйма мамаш. Его собственная — рядом с могилой и священником, моя — на изрядном отдалении, следуя иерархии скорбей, а далее — все остальные со своими отпрысками или без оных. Отпрыски — парни по большей части. У меня впечатление, что я вновь перечитываю извещение: г-н и г-жа cost, cosa, coso, cosello, cosieri, cosatello и их дети.
Практически все собрались, кроме моего отца из-за его разболевшейся ноги. Как-то так получается, что мамаше Тренгони никуда не деться от этого кладбища — сначала муж, а потом вот и единственный сын. Теперь-то она наверняка задумается: а был ли их переезд во Францию такой уж удачной затеей? Но насколько я ее знаю, она уже никогда не вернется назад, в деревню, и не оставит обоих своих мужчин без присмотра.
Мои сестры не явились, брат тоже. Собственно говоря, никто его не знал по-настоящему. Для всех в нашем квартале он был не более чем шутом гороховым, этакой местной достопримечательностью. И все наверняка думают, что я тут единственный, кто по праву занимает место в похоронной процессии. Раньше мы с Дарио, завидев гробы, которые несут на кладбище, убирались с глаз подальше, чтобы нахохотаться до упаду. Это же надо удумать такое — кладбище Прогресса! А его так назвали всего лишь потому, что оно расположено на улице Прогресса, которая отделяет микрорайон, застроенный многоэтажками с умеренной квартплатой. И с тем же названием.
У меня тут дед лежит на соседнем участке. Чтобы хоть как-то отвлечься от гнетущего молчания, отыскиваю глазами его крест из кованого железа, который отец привез с завода. У Дарио крест совсем простой — только имя да две даты. Пытаюсь выяснить, есть ли среди собравшихся незнакомые мне лица, и нахожу таких четыре-пять. С севера наплывают несколько тучек. Только дождя не хватало. И это лето.
Священник, похоже, заканчивает свою проповедь. Наступает весьма опасный момент, когда все присутствующие проходят мимо матери усопшего, самые опечаленные прижимают ее к своему сердцу, а самые вдохновенные произносят что-нибудь утешительное — о том мире, где мы живем, и о том, где будем. И конечно же, о том, откуда все мы родом. Отличная, хорошо прочувствованная чушь, которая, разумеется, никого не утешит. Но удержаться от нее трудно — слишком уж редко в этой дыре подворачивается случай потолковать о метафизике. Некоторые уже берутся за кропило, но меня интересуют другие, как раз те, кто не отваживается взять его в руки и остается стоять в сторонке, хотя и притащились чего-то ради на это кладбище Прогресса в самой глубине «красных» предместий. А мне-то самому идти кропить могилу или не идти? И что это за женщина слева от меня, с лицом, скрытым под вуалью? Как-то она чересчур сопит и шмыгает носом. Терпеть не могу этих демонстраций горя на южный лад. Чтобы плакать с таким пылом, на это, видимо, надо иметь право. А у нее к тому же имеются отличные природные данные для настоящей mater dolorosa.[4] Хотя, по правде сказать, я ее почти не вижу — ни глаз, ни ног. Но интуиция мне подсказывает, что эта дамочка плачет не совсем по-итальянски, а как бы это сказать… на правильном французском. Только вот из-за ладоней, прижатых к лицу, трудно разобрать, действительно она плачет или молится.
Дарио, а Дарио? Кто она такая, эта бабенка? Только не уверяй меня, что тебе удалось подцепить напоследок настоящую француженку, чтобы достойно завершить карьеру латинского любовника из субпрефектуры. Ты слышал, что священник только что говорил о тебе? О твоем жизнелюбии, о воспоминаниях, которые мы о тебе сохраним? Тебе-то самому все это не показалось вздором? Если хочешь, я тоже скажу сейчас надгробное слово. Так вот, Дарио, ты был всего лишь смазливый мальчишка, который только о том и мечтал, чтобы весь остальной мир эту смазливость заметил. Ты был слишком ленив, чтобы стать уголовником, но и чересчур горд, чтобы месить тесто для пиццы. Что в тебе вообще было хорошего? Прямо скажем, немного, если не считать некоторых светлых идей относительно того, чтобы попробовать как-нибудь… cavarcela, как ты это называл. Разгрести себе местечко под солнцем, выкопать норку на одного. Но только так, чтобы не копать. Что ж, сегодня это сделали для тебя другие, по крайней мере хоть в этом ты преуспел. Кстати, тот самый священник, который для тебя произнес сегодня все эти красивые слова, пал в свое время твоей первой жертвой. Тебе тогда и девяти еще не было. Липовые лотерейные билеты на благотворительной ярмарке. А денежки ты потом спустил на скачках. А кто помнит твой выход на радиоконкурсе в честь праздника Сирени? Ты шел тогда вторым, после какой-то самодеятельной группы. И как ты, положив руку на сердце, затянул эту старую штуку Боби Соло — una lacrima sul viso… Мой отец даже слезу пустил — так смеялся. А ты, звезда эстрады, небось думал, что так и надо? Вот что ты оставил в нашей памяти — воспоминания о куче невероятных проделок, единственное достоинство которых состояло в том, что они не довели тебя до тюрьмы.
Но все это, конечно, не причина, чтобы вдруг оказаться здесь. Про твое письмо я не сказал никому, но и совсем забыть о нем мне не удается. Говорят, что ты умер от пули в голову и что тебя нашли на набережной Сены, у самой границы Иври. Думаешь, меня это удивило? Мне трудно допустить, что ты не сделал еще какую-то большую глупость, — я помню о тех, которые ты вынудил меня написать. Не могу запретить себе думать, что ты, может быть, даже заслужил ее, эту пулю, как ранее заслужил все полученные тобой затрещины, когда был еще пацаном. И кстати, что это были за деньги, которые ты собирался вернуть, «если тебе оставят время»? Что это? Обещание выкинуть новый фокус, который заставил бы тебя повзрослеть в конце концов?
А вот эта женщина, слева от меня? Она плачет так, словно могла бы называться мадам Рафаэль. В ней, похоже, сокрыт источник всех тех слез, которые я даже не хотел искать. Да, наше горе не измерить одной меркой. Мое, признаться, вовсе не так уж глубоко.
Но я тут, оказывается, не один такой бесчувственный. Вот те два типа, что стоят от меня метрах в десяти, прислонившись к платану, один в куртке, другой даже без пиджака… Интуиция мне подсказывает, что никакая печаль их не гложет. Впрочем, сколько нас тут таких? От кропила я увернулся, но вот с мамашей Тренгони все-таки пришлось расцеловаться. Не то чтобы у меня было такое намерение, но я ведь, как-никак, ровесник ее дорогого сыночка, и я такой же черноглазый, и у меня такие же волосы и цвет лица… вот я и подумал, что она, быть может, захочет немного осушить свои слезы о мои щеки.