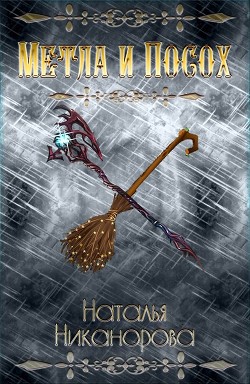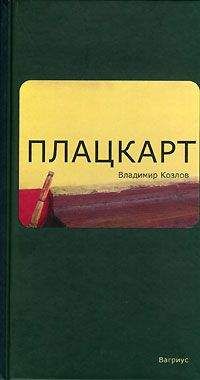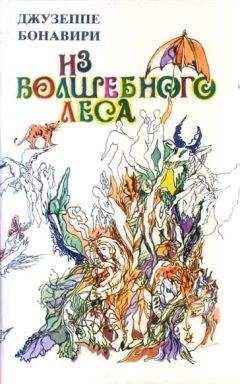глядя… На часах ноль пятьдесят один, скоро час. А он так и не осилил «Крейцерову сонату». И значит, будет читать её утром, в те драгоценные полтора часа свободы, когда можно бы спокойно поспать… Будет сидеть с больным горлом, пить бесконечный чай и заедать его Толстым – глотать без аппетита, по рецепту. А потом с красными глазами и кучей носовых платков поедет в школу. Умная Лизочка за первой партой, она точно готова к беседе, Игорь, Паша и Артём – им иногда интересны его излияния – и два десятка спящих… Кристина опоздает на двадцать минут, вальяжно хлопнет дверью, и он потеряет нить рассказа, а вспоминая, начнёт заикаться – под кривые улыбки и пустые глаза. Кристина добредёт до последней парты, швырнёт рюкзак на стул и рухнет рядом – как подстреленная туша; волосатая голова упадёт на изрезанные руки, и в этой позе – то ли презирая человечество, то ли просто во сне – она просидит до конца урока. А Никанорову рухнуть нельзя, и спрятаться негде… Он будет верещать о Позднышеве, о любви, о грехе, поминутно силясь не чихнуть и стыдливо промокая нос платком. Горло будет болеть всё больше, он закашляется, осипнет, к тридцать пятой минуте гул в аудитории превратится в гвалт, Никаноров станет размахивать руками, чтобы хоть как-то сфокусировать их на себе – хотя бы её, Лизочку, заорёт, издаст резкую высокую ноту – и потеряет голос. Протарахтит звонок – и гнойник прорвётся, они брызнут наружу, он запоздало нацарапает страницы на доске и стукнет кулаком по столу, но звук растворится в шуме коридора, Лизочка виновато улыбнётся и запишет задание в дневник, Паша забудет сменку, вернётся и сухо извинится, Кристина медленно поднимет голову и будет долго смотреть в никуда, пока он, Никаноров, сморкается… Потом тряское метро, обшарпанный дипломат с их тетрадями, карманы, вздутые от грязных платков, красный нос, на котором уже натёрта короста… (Он усиленно моргает и чешет ладонь) И сон? Счастливый субботний сон без страхов и забот. В его тёмной комнатушке без телефона и компьютера, с чёрными шторами и редкими тараканами…
Никаноров встаёт и решительно направляется к тамбуру.
– Мужчина, дверь в тамбур не закрывайте! – раздаётся приказ из соседнего отсека, и Никаноров вздрагивает. – Душно!
Это свинка. Её скрипучий рубящий голос он уже выучил: она тянет «щ», словно набрасывает петлю – «мущщщина».
Он порывается было кивнуть и быстро пройти мимо, но вдруг прикусывает язык:
– Простите, очень дует, – говорит он твёрдо, даже жёстко, пожалуй, излишне жёстко.
Свинка недоверчиво вскидывает бровь и оглядывает незнакомца внимательнее. В её скукожившихся зрачках – смесь бешенства и уважения. Щёки Никанорова пунцовеют.
– На м-моём месте очень д-дует, – сбивчиво добавляет он, пытаясь сгладить неловкость, и глупо улыбается. Заикание предательски просачивается. Это фиаско.
– Ну а мы щас от жары сдохнем, – безапелляционно, со смаком.
Никаноров мнётся, хватается за ладонь.
– Но… Д-давайте… найдём общее решение, – он силится вернуть голосу бодрость, но тот дрожит, как Пушинка в его руке в тот чёрный день, когда гвоздём ему пропороло кисть и он впервые обмочился со страху.
– Мужчина, – опять это едкое «щ-щ-щ» – ногтём по пенопласту, – мы нашли решение. Нам душно – мы открыли дверь. Нас тут шестеро, вы – один.
Он растерянно озирается. Наверху спят – или притворяются. Пожилой пассажир с острой бородкой закапывается в «Известиях». Двое шахматистов на боковушке равнодушно двигают фигуры, потягивая дешёвый коньяк. Молчание – знак согласия.
На скулах Никанорова выпячиваются желваки. Кровь в висках бешено бьётся.
– Хорошо, извините, – цедит он, кивает и быстро проходит вперёд, задевая по пути чью-то корзину. Свинка провожает его недоверчивым взглядом.
Тук-тук, так-так… Тук-тук, так-так… Какого чёрта?! Почему он должен страдать?! Ему холодно, холодно!!… Почему никому до этого нет дела?! Никаноров ударяется о чужие ноги, лязгает зубами, протискивается сквозь чемоданы и авоськи с овощами, вокруг смех, храп, посвисты, кто-то окрикивает: «Эй, поаккуратней!» – нет, он не может «поаккуратней», он не будет «поаккуратней», ему холодно, и он не оборачивается. Плевать! Да, плевать. Никаноров хищно улыбается, наслаждаясь собственной злобой – такой редкой, такой сладкой. Теперь он не заикается, теперь ему не страшно! Никакого сострадания, эмпатии и прочей белиберды… Око за око, зуб за зуб!! Ему холодно, и он сейчас закроет эту чёртову дверь! Хлопнет ею громко – на весь вагон! А потом скажет этой свинье, что она свинья!!! Он хохочет и пинает чью-то сумку в проходе. Если кто-то сейчас перегородит ему дорогу – он вцепится в горло! Они заслужили!!…
Тамбур. Дверь закрыта. Закрыта? Никаноров ощупывает её – и не верит глазам: закрыта. Проводит пальцем по щели – и не чувствует воздуха. Дверь закрыта. Надо же… Озадаченно чешет в затылке. Сладкая злоба разбилась о холодную сталь. Ему досадно, неловко. Он думает открыть сейчас эту дверь, чтобы вновь закрыть. Захлопнуть. Со всей силы. Со всей дури. Но куда всё делось? Он обмяк, плечи опустились, он вновь ощутил першение в горле. Слишком стучит в висках. Наверное, температура. Он сглатывает. Горько, мерзко. Ему снова отчаянно хочется горячего. И спать.
– Мужчина, дверь за собой закрывайте, – усталый девический голос позади: это не свинка.
Он оборачивается: проводница с отсутствующим взглядом перебирает бельё.
– Это не я, – по-детски отзывается Никаноров, и проводница поднимает бровь:
– Что «не я»?
– Я не з-закрывал дверь, – он отвечает быстро и, конечно, заикается. – Т-то есть не открывал…
Проводница на него не смотрит:
– Дверь в тамбур должна быть всегда закрыта.
– Конечно! Спасибо! – Никаноров кивает и чуть кланяется. Девушка настороженно глядит исподлобья:
– Мужчина, вам чего? – в руках ворох белья, под глазами мешки, за окном мрак, у неё третья смена. – Чаю? Сигарет? Расчёску?
– Чаю! – Эта девушка, закопавшаяся в белых тряпках, должно быть, ангел-хранитель. Нужно успеть попросить у него счастья, пока он не исчез. – Чаю, пожалуйста! Я… Я п-принесу деньги… У меня п-пакет… Я оставил…
– Перед прибытием завтра расплатитесь, – она дёргаными движениями откладывает бельё, вытаскивает пакетик из коробки, кидает его в стакан и поворачивает ручку титана. Кипяток вздымается белым паром, и Никанорову кажется, что курится Фудзияма.
– Спасибо! Спасибо Вам огромное! – он снова осклабился и чуть не прослезился.
– Семь рублей утром занесёте. Вы до конца у меня?
– Да, спасибо! – тепло подстаканника греет ладони. – Я до Санкт-Петербурга.
– До конца, – подытоживает проводница и нетерпеливо подхватывает кучу белья. – Через четыре часа прибываем. – Никаноров, жуя губы, всё не уходит. – Что-то ещё?
– Э-э… П-простите… – девушка равнодушно склоняется над простынями и бегло перебирает их пальцами – пересчитывает. – У н-нас там шумно… Я… М-мне на работу завтра… Можно выключить свет? – наконец формулирует он и выдыхает. – Пожалуйста!
– Через пять минут выключаем, – отзывается проводница, не поднимая головы.
Всё хорошо. Вот теперь всё по-настоящему хорошо. Тук-тук, так-так… Дзынь-дзынь – звенит