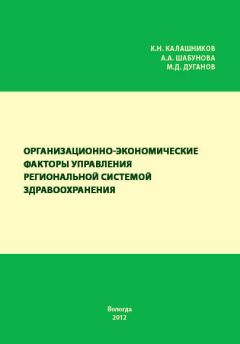Она шла по ступенькам очень тихо, все еще не готовая к тому, чтобы войти. Оставалось так мало времени, чтобы что-то придумать, что-то спланировать. Она точно знала, что откроется ее взору, когда она распахнет дверь комнаты матери. Ее кровать стояла у окна. Летними вечерами миссис Болем могла лежать и наблюдать за тем, как садится солнце за зубчатым нагромождением крыш со скатами с извилистыми дымовыми трубами и в отдалении темнеют башенки станции «Сент-Панкрас» на фоне пламенеющего неба. Сегодня занавески будут задернуты. Медсестра, обслуживающая больных на дому, уже должна была уложить мать в постель, оставить телефон и переносное радио на прикроватной тумбочке вместе с колокольчиком, которым при необходимости можно было воспользоваться, чтобы позвать на помощь соседку снизу. Прикроватная лампа матери будет включена, светясь, как маленький островок света в темноте. На другом конце комнаты в электрическом камине будет гореть одно полено, всего одно, чего по их весьма экономным подсчетам должно быть достаточно для поддержания уюта и комфорта в октябрьский вечер. Как только она откроет дверь, то встретится взглядом с глазами матери, лучащимися счастьем и предвкушением встречи. За этим последуют все то же невыносимо радостное приветствие, все те же бесконечные доскональные расспросы о том, как прошел день.
«У тебя хорошо прошел день в клинике, дорогая? Почему ты опоздала? Что-нибудь случилось?»
И как она на это ответит: «Ничего особенного, мамочка, если не считать того, что кто-то убил кузину Энид ударом в сердце и мы наконец-то разбогатеем».
И что теперь будет? Или, о милостивый Боже, чего отныне не будет никогда? Больше никакого запаха полироли и подгузников. Больше никакой необходимости ублажать гарпию с третьего этажа, на тот случай если ей придется подняться на звон колокольчика. Больше никакого наблюдения за счетчиком электричества и раздумий о том, достаточно ли тепло и не надо ли включить камин на полную мощность. Больше никаких благодарностей кузине Энид за чеки, что она великодушно дарила им дважды в год, один в декабре – как нельзя более кстати, к Рождеству, – а второй в конце июля – последний раз с его помощью заплатили за такси и дорогой отель, где обслуживали инвалидов, готовых платить за доставляемые ими неприятности. Больше никакой необходимости считать дни и следить за календарем, гадая, расщедрится ли Энид и в этом году. Никакой необходимости принимать чек с подобающей благодарностью, скрывая изо всех сил ненависть и негодование, которое так и подмывало порвать эту бумажку и бросить ее в некрасивое, самодовольное, снисходительное лицо кузины. Никакой необходимости подниматься вновь и вновь по этим ступенькам.
Они могли бы купить дом в пригороде, о котором говорила ее мать. В одном из более престижных пригородов, разумеется, недалеко от Лондона, откуда ей было бы удобнее добираться до клиники (неразумно отказываться от работы, прежде чем в этом возникнет острая необходимость), с участком, маленьким садиком и, возможно, даже с видом на деревенскую улочку или луг. Может быть, они даже приобретут небольшую машину. Она научится водить. А потом, когда мать нельзя будет оставлять одну, они начнут целые дни проводить вместе. Это означало конец гнетущего волнения за будущее. Теперь у нее не было причин представлять мать в палате для хронических больных, за которыми ухаживают переутомленные незнакомые люди, в окружении дряхлых, страдающих недержанием старух и ожидании печального конца.
К тому же эти деньги позволят купить не столь необходимые, но все же приятные вещи. Она обновит свой гардероб. Ей больше не придется ждать распродаж каждые два года, если она захочет иметь костюм более или менее высокого качества. Она сможет одеваться красиво, действительно красиво, расходуя в два раза меньше денег, чем Энид тратила на уродливые юбки и костюмы. Наверное, ими забиты все шкафы в кенсингтонской квартире. Кому-то придется их разобрать. Но кому нужны эти тряпки? Кто захочет взять хоть что-нибудь, принадлежавшее кузине Энид? Кроме ее денег. Кроме ее денег. Кроме ее денег. А что, если она уже написала письмо юристу о намерении изменить завещание? Нет, это невозможно!
Сестра Болем подавила охватившую ее панику и попыталась еще раз тщательно обдумать эту возможность. Она уже столько раз размышляла об этом раньше! Если предположить, что Энид написала письмо в среду вечером… Допустим, она действительно его написала. Тем вечером она не успела бы отнести его на почту до закрытия, так что письмо могло быть получено только сегодня утром. Все знали, как много времени уходит у адвокатов на то, чтобы что-то сделать. Даже если бы Энид указала, что это срочное дело и успела отправить письмо в среду, новое завещание вряд ли могло быть готово для подписания. А если и было готово и ждало часа, когда его положат в плотный, официального вида, конверт, то какое это имело значение? Кузина Энид больше не могла подписать его своей округлой, справедливой, почти детской рукой, которая всегда так соответствовала ее облику. Кузина Энид уже никогда ничего не подпишет.
Она снова подумала о деньгах. Не о своей доле. Теперь она вряд ли могла принести ей счастье. Но даже если ее арестуют за убийство, никто не сможет помешать мамочке унаследовать ее долю. Никто! Но ей необходимо каким-то образом немедленно завладеть частью наличных. Все знают, что завещание проверяется долгие месяцы. Будет ли это очень бессердечно и подозрительно, если она отправится к солиситору Энид, объяснит, насколько они бедны, и спросит, что можно сделать? Или благоразумнее обратиться в банк? Вероятно, солиситор сам пошлет за ней. Конечно, пошлет. Она и ее мать приходятся умершей ближайшими родственниками. И как только будет оглашено завещание, она сможет тактично поднять вопрос о выплате аванса. Ведь это будет звучать вполне естественно? А попросить об авансе в размере одной сотни фунтов – это совсем немного для человека, который должен унаследовать тридцать тысяч.
И тут она поняла, что не может больше терпеть. Струна неимоверного напряжения оборвалась. Она не заметила, как преодолела несколько последних ступеней и вставила ключ в замок. В следующее мгновение она оказалась в квартире и метнулась в комнату матери. Завывая от страха и боли, рыдая так, как не рыдала с детства, она бросилась на грудь матери и ощутила поддержку и удивительную силу ее хрупких трясущихся рук. Эти руки качали ее, словно ребенка. Любимый голос ласково убаюкивал. Из-под дешевой ночной рубашки она ощутила знакомый запах мягкой плоти.
– Тихо, моя родная. Моя девочка. Успокойся. Что случилось? В чем дело? Расскажи мне, моя дорогая.
И сестра Болем рассказала.
Со времени своего развода, что произошел два года назад, доктор Штайнер делил дом в Хэмпстеде с овдовевшей сестрой. У него была собственная гостиная и кухня, что позволяло им с Розой реже видеться, подпитывая иллюзию, будто они хорошо ладят. Роза была культурным снобом. Ее дом стал основным местом сборищ неработающих актеров, поэтов-однотомников, эстетов, позирующих почти как артисты балета, и писателей, которые предпочитали рассуждать о своем творчестве в атмосфере сочувствия и понимания, а не заниматься им. Доктор Штайнер не протестовал против их присутствия. Он просто следил за тем, чтобы они ели и пили за счет Розы, а не его. Он прекрасно знал, что его профессия была чем-то вроде некоего клейма в глазах сестры и что представление его как «моего брата Пола – известного психоаналитика» в какой-то мере служило компенсацией за низкую арендную плату, которую он нерегулярно вносил, и мелкие неудобства, причиняемые его близким соседством. Штайнер вряд ли мог так комфортно и экономно устроиться, будь он управляющим банка.
Сегодня ночью Розы не было. Просто возмутительно и неуважительно с ее стороны отсутствовать в такой вечер, когда он нуждался в ее обществе, но такое поведение было свойственно ей. Служанки-немки тоже не было, скорее всего она ушла без позволения, поскольку пятница не относилась к тем дням, когда она могла уходить рано. На собственной кухне его уже ждал готовый салат и суп, но даже подогреть суп казалось ему выше его сил. Бутерброды, которые доктор без всякого удовольствия проглотил в клинике, перебили аппетит, но не утолили желание съесть что-нибудь белковое, желательно горячее и надлежащим образом приготовленное. Но он не хотел ужинать в одиночестве. Налив стакан хереса, Штайнер ощутил потребность с кем-нибудь поговорить – с кем угодно, причем об убийстве. Потребность была очень острой. Он подумал о Вэлде.
Его брак с Вэлдой был обречен с самого начала, как и, должно быть, любой брак, в котором муж и жена в принципе игнорируют взаимные потребности и при этом тешатся иллюзией, что между ними царит идеальное взаимопонимание. Доктор Штайнер не был убит горем из-за развода, но ощущал некое беспокойство и огорчение, а впоследствии еще и мучился от иррационального чувства вины и собственной несостоятельности. Вэлда, напротив, судя по всему, наслаждалась свободой. Когда они встречались, доктор всегда поражался: она словно светилась здоровьем. Они не избегали друг друга, так как встречи с бывшим мужем и брошенными любовниками с проявлением величайшей доброжелательности и благодушия являли собой то, что в понимании Вэлды называлось цивилизованным поведением. Она не вызывала у доктора Штайнера особой симпатии или восхищения. Он любил общество женщин, которые были хорошо эрудированны, хорошо образованны, умны и серьезны. Но не с такими женщинами он любил ложиться в постель. Он знал все об этой причиняющей столько неудобств дихотомии[20]. Поиск ее причин занял немало времени на приемах у его дорогостоящего аналитика. Но к сожалению, знать – одно дело, а что-то изменить – совсем другое, как ему могли бы сказать некоторые пациенты. А когда они жили с Вэлдой (крещенной Миллисент), бывали и такие времена, когда ему и в самом деле не хотелось быть другим.