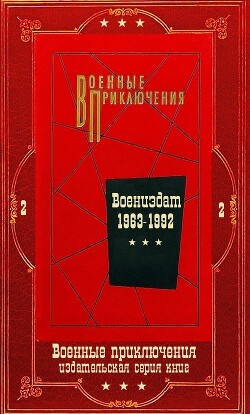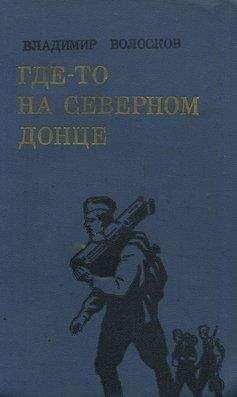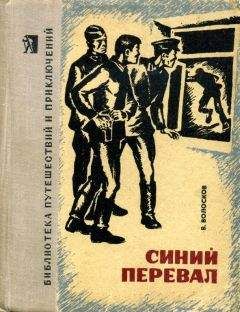Среди кухни стояла Булгаков. Босой, встрепанный, в выпущенной поверх шаровар гимнастерке. Он, видимо, только что слез с печки. Володя постучал еще раз. Булгаков лениво почесался своей клешней и пошел с кухни.
— Кто? — сонно спросил Булгаков, выходя в сени.
— Ефросинья дома?
— Откудова... Не пришедши она еще. — Булгаков безбоязненно открыл дверь и заспешил в избу.
Володя зашел вслед за ним. Клюев остался в сенях.
— Рано. Не пришедши она еще, — зевая, повторил Булгаков. — Ждать будешь или как?
— Подожду,
Булгаков еще раз почесался:
— На кухню иди. Там лампа, — и снова полез на печь.
Володя выхватил пистолет.
— Руки вверх!
Булгаков оцепенел. Замер около печи на подогнувшихся ногах. Из сеней быстро вбежал Клюев.
— Руки вверх! — повторил Володя.
Булгаков не пошевелился. Его будто хватил паралич. Клюев резко рванул коновозчика за плечо. Повернул лицом к себе. Булгаков чуть не упал. Его небольшие глаза округлились: они были полны животного ужаса и смотрели в одну точку — на черное дульце Володиного пистолета. Длинное, морщинистое лицо было бледно, отвисшая толстая губа вздрагивала. Клюев ловко ощупал его со всех сторон.
— Где оружие?
Булгаков продолжал молчать. Страх начисто лишил его способности соображать. Он безотрывно смотрел на пистолет. Володя сунул ТТ в карман.
— Оружие есть?
Молчание.
— Где оружие? — свирепо рявкнул Клюев.
Этот выкрик вывел Булгакова из оцепенения. Ноги его окончательно ослабли, он упал на колени и вдруг тоненько всхлипнул:
— Откудова... Нету у меня никакова оружия... Не виноватый я... Богом, матерью клянуся! Не виноватый я! Это они все... Они! Душегубы! — Вздрагивая и плача, он пополз к Клюеву. — Ноги вам расцелую... Не губите! Не виноватый я!
— Встать! — властно скомандовал Володя,
Булгаков подчинился.
Володя заглянул на печь, скинул сушившиеся валенки и портянки коновозчика.
— Одевайся!
Володя вышел последним. Он затушил лампу, запер избу на висячий хозяйский замок, который нащупал на дверной ручке.
— Куда ключ кладете? — спросил он Булгакова.
Тот трясущейся рукой засунул ключ за наличник кухонного окна. Володя тут же, на всякий случай, проверил — не провалился ли он куда-нибудь в щель. Булгаков перестал всхлипывать и стучать зубами, только длинные ноги все еще подламывались в коленях.
— Ложись, и чтобы ни звука! — приказал Клюев, когда они подошли к подводе.
Булгаков лег в сани. Его накрыли большим овчинным одеялом и закидали сеном.
— Предупреждаю. Ни звука! — повторил Клюев, берясь за вожжи.
— Слушаюсь, товарищ начальник, — срывающимся шепотом пообещал Булгаков — из сена торчала только его голова.
Володе стало смешно. Он надвинул шапку на вспотевший лоб коновозчика.
— Чуть что, пеняй на себя! — Володя похлопал себя по карману.
— Слушаюсь, товарищ начальник! — повторил Булгаков, и Володя почувствовал, как он панически вздрогнул под сеном.
Лошади с места пошли резвой рысью. Всю дорогу до станции Булгаков молчал. Не проронил он ни слова, когда проезжали по безлюдным улицам станционного поселка. И только на выезде вдруг завозился, сделал попытку сесть.
— Вон там... Того иуду брать надо... — хрипло зашептал он, кивая вправо. — Куницу. Да Мокшина. Это они...
— Молчать! — приказал Клюев.
— Так ведь гады они, товарищ начальник, — плачуще прошептал Булгаков. — Доподлинные гады... — Он заскрипел зубами от бессильной злобы. — Это они Николашина-то...
Клюев зажал ему рот полой полушубка.
Володя посмотрел направо. В конце улицы, возле шпалорезки, темнел высокий большой дом. Было странно сознавать, что в этом обыкновенном, знакомом с детства крестьянском доме притаился враг.
Проехали мимо шпалорезки, так по застарелой привычке зареченцы именовали бывшую мастерскую райпромкомбината, разросшуюся за месяцы войны в большой деревообрабатывающий завод. За длинным деревянным забором в ярком свете электрических огней визжали дисковые пилы, шумно всхлипывали пилорамы, разносился гулкий стук перекантовываемого леса.
За заводом свернули к переезду, на дорогу, ведущую в Медведёвку. Володя стал устраиваться поудобней, сунул ноги, обутые в мокшинские фетровые бурки, под овчинное одеяло. Подвязал болтающиеся шнурки шапки-ушанки. Семнадцать километров — путь не близкий. Но Клюев вдруг завернул лошадей с тракта на узкую проселочную дорогу. Володя удивился. Он собрался сказать, что едут не туда, как подвода неожиданно остановилась. Впереди на дороге чернел большой грузовик с крытым кузовом-фургоном. От грузовика подошел человек.
— Как? — коротко спросил он Клюева.
— Порядок. Бери лошадей — и на станцию. Глаз с вокзала не спускай. Мокшин что-то задумал.
— Ясно, — хмуро сказал человек, и Володя окончательно убедился, что никогда не слышал его голоса.
— Вставай! — скомандовал Булгакову Клюев.
Тот послушно вылез из-под сена, поддерживая обеими руками сползшую на ухо шапку. Клюев сказал Володе:
— Веди его в машину.
Шофер распахнул заднюю дверку кузова, и Булгаков трусливо полез в фургон. Володя последовал за ним.
— Смотри, Званцев, в оба! — еще раз предупредил Клюев. — А Садовников пусть остается на месте. Мы скоро приедем.
— Ясно, — сказал Званцев.
Званцев, Садовников... Этих фамилий Володя никогда не слышал. У капитана оказалось в Заречье и на станции гораздо больше людей, чем можно было предполагать. Клюев прыгнул в кузов. Шофер прикрыл за ним дверцу. Машина тронулась. Ощущение движения, видимо, снова вселило в Булгакова страх.
— Куда это меня? — хрипло спросил он.
— Куда надо, — сухо сказал Володя.
— Господи... — тоскливо пробормотал Булгаков. — За что такая кара?
— За дело... — буркнул Клюев.
— Да не виноватый я, — срывающимся голосом запричитал Булгаков. — Мокшин с Куницей — они душегубы! Они, проклятые!
— А керн кто уничтожил? Куда вы его дели?
— В прорубь сбросили... — Булгаков заплакал, часто, тяжко вздыхая в темноте. — Не сам ведь я. Наганом, ирод, угрожал... Властям грозился выдать. Вот мы с Куницей и сделали...
— Что это за счеты у тебя с властями?
— Э-э, да что говорить, товарищ начальник, — обреченно всхлипнул Булгаков. — Труса сыграл. Взяли меня в армию, еще винтовку не научился толком держать, а тут уже и немцы... На осьмой день мы, необученные, попали под танковую атаку... Не сдержался я. Сбежал... Страшно стало. Сто раз потом тот день и час проклял... Руку себе сдуру прострелил... Наши-то немцев отбили. Право слово отбили! Такие же салаги, как я... Меня в санбат. А после операции — прямехонько в трибунал. Может, и не решили бы, да бомбежка была — я и утек опять... С Куницей этим встретился...
— Кто он такой?
— Все расскажу, товарищ начальник. Все... — торопливо заговорил Булгаков, проглатывая, комкая слова. — Ничего не утаю! И не Куница вовсе он. Чужие документы с убитого у него. Он мне сам по пьянке говорил. Кулак он, белогвардеец, вредителем был, да перед войной попался. Арестовали его в Минске... А тут война... Немцы в Минск пришли. Он и продался. Меня-то он в поезде подцепил. С какой-то дамочкой ехал. Эвакуировались вроде бы из Ленинграда...
— А ты куда ехал?
— Сам не знал, — тяжело вздохнул Булгаков. — Куда глаза глядят. В армию назад нельзя было. Рука... Сами понимаете. Родные места под немцем. Вот он и ущучил меня. Дамочка мне руку в дороге долечила. Красивая такая, беленькая. А в душе-то, видать, тоже гадюка хорошая. Привезли в Сосногорск, где-то документы раздобыли, а потом в подручные к этому ироду определили...
— Какому ироду?
— Да к Мокшину, чтоб его громом пришибло... Все сбежать хотел или повиниться... Все думал: скоплю деньжонок на дорогу да рвану куда-нибудь от них подальше... Будь что будет! А то и заявлю. Да душонка слабая...
— Кто еще сотрудничает с Мокшиным? — спросил Клюев.
— А никого больше. Я да Куница. — Булгаков всхлипнул. — Знаю, сволочь я... Так ведь дети у меня, жена, тятя еще живой... Небось думают, что воюет Иван, а я... Немцев с наших мест сгонят — узнают все. Позор ведь. Детишкам-то позор какой! Клейменые будут. На всю жизнь...