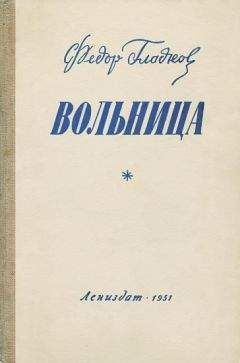Улыбка Запуса перешла, и скрылась в его волосах.
- Видите ли, товарищ Яковлев...
- В обыкновенной войне вы могли бы считаться со своими обидами... огорчениями.
- Я совсем не об... - Он заикнулся, улыбнулся трудно выговариваемому слову: - об обидах... у меня есть может быть сантиментальное желание... Чорт, это, конечно, смешно... вы потом это сделаете... а я хотел бы сейчас... с зачислением стажа...
- В партию?
Яковлев тиснул ему руку, толкнул слегка в плечо:
- Ничего. Мы зачислим... с прежним стажем...
- До - Шмуро?..
- До всего прочего.
Запус откинул саблю, пошел было, но вернулся:
- Ну, закурить дайте, товарищ Яковлев...
Олимпиаде же сказал в сенях:
- Взяли...
- Куда?
- В партию.
Запус и Егорко Топошин скакали к окопам подле ветряных мельниц.
Олимпиада прошла в кабинет председателя Укома, вставила в машинку кусок белого коленкора. Печать Укома она искала долго - секретарь завернул печать в обертку осьмушки махорки. Она сдула влипшие меж резиновых букв: "У. Комитет Р. К. П. (б-в)" - крошки табаку, оглянулась. В пустой комнате сильно пахло чернилами. В углу кто-то разбил четверть. Она сильно надавила печатью на коленкор.
Теперь короткая история смерти.
Запус быстро, слегка заикаясь, говорит о своем включении в партию. У мельниц голос его заглушается перестрелкой. По пескам, из степи, часто пригибаясь, бегут казаки - к мельницам. - Крылья мельниц белые, пахнут мукой, - так, мгновение, думает Запус.
Тогда в плечах подле шеи тепловато и приторно знобит. Запусу знакомо это чувство; при появлении его нужно кричать. Но окружающие его закричали вперед - всегда в такое время голоса казались ему необычайно громкими; ему почему-то нужно было их пересилить.
Казаки, киргизы - ближе. Бегство всегда начинается не с места убийств, а раньше. Для Запуса оно началось в Народном Доме два дня назад, когда неожиданно в саду стали находить подбрасываемые винтовки: кто-то, куда-то бежал и страшно было то, что не знали, кто бежит. Донесение отрядов были: все благополучно, кашевары не успевают варить пищу.
Запус в седле. Колени его трутся, давят их крупы нелепо скачущих коней, словно кони все ранены. Казаки рубят саблями кумачевые банты - и разрезанное кровянисто-жирное мясо - как бант. Запуса тошнит; он, махая и тыча маузером, пробивается через толпу. Его не пускают; лошадь Запуса тычится в крыло мельницы. Между досок забора и ближе, по бревнам, он видит усатые казачьи лица. На фуражках их белые ленты. Запус в доски разряжает маузер. Запус выбивает пинком дверь (может быть, она была уже выбита). Запус в сенях.
Здесь в сенях, одетая в пестрый киргизский бешмет, Олимпиада, Запуса почему-то удивляют ее руки - они спокойно и твердо распахивают дверь в горницу. Да! Руки его дрожат, рассыпают патроны маузера.
- Кабала! - кричит Запус. Но он все же доволен, он вставил патроны. Когда патроны вставлены, револьвер будто делается легче.
И наверное это отвечает Олимпиада:
- Кабала.
И, точно вспомнив что-то, Запус быстро возвращается в сени. Олимпиада молчаливо ждет. Казаки остервенело рубят лошадь Запуса. Егорко Топошин бежит мелкими шажками; выпуская патроны, Запус лежит возле бочки с капустой в сенях. "Курвы", - хрипит Егорка. На крыльце два казака тычут ему в шею саблями. - Какая мягкая шея, - думает Запус, затворяя засов: Егорка не успел вбежать в сени: с его живота состреливает Запус киргиза.
- В лоб! - кричит Запус и, вспоминая Егорку: - курва!..
Левая рука у его свисает, он никак не может набрать патронов. Олимпиада топором рубит окно. Ему необычайно тепло и приятно. Топор веселый и звонкий, как стекло. Запуса встаскивают на подоконник. Он прыгает; прыжек длится бесконечно - его даже тошнит и от необыкновенно быстрого падения загорается кожа.
Олимпиада гонит дрожки. Запус всунут под облучек. Подол платья Олимпиады в крови Запуса. И от запаха крови, что ль, неистово мчится лошадь. Казаки продолжают стрелять в избу. Олимпиада смеется: какой дурак там остался, в кого они стреляют?
Дрожки какого-то киргизского бея. Но уже подушка бея, вышитая шелком, в крови Запуса. Колеса, тонкий обод их вязнет в песке. Перестрелка у тюрьмы, у казарм. Город пуст. Лошадь фыркает на трупы у заборов. Жара. Трупы легли у заборов, а не среди улиц.
Олимпиада скачет, где - спокойнее. У пристаней белые холмы экибастукской соли. Пароходы все под белыми флагами. Мимо пароходов, вдоль пристаней гонит Олимпиада. Хорошо, что ременные возжи крепки. Перестрелка ближе. От каланчи под яр дрожки с Запусом.
Воды неподвижные, темно-желтые, жаркие. В седом блеске Иртыш.
Моторный катер у берега. К носу прибит длинный сосновый шест и от него полотенце - белый флаг. Трое матросов, спустив босые ноги в воду, закидывают головы вверх на яр. Считают залпы.
Олимпиада не помнит этих лиц. Лошадь входит в воду и жадно пьет. Олимпиада берет на руки Запуса.
- Дайте, трап, товарищи, - кричит она.
Средний, приземистый, темнолобый подбирает ноги и, грозя кулаком, орет с матерками:
- Что не видишь, сука? Сдались!.. Иди ты... с хахалем своим... Привезла!
- Под убийство нас подводит!
- В воду его, пущай пьет!
- Любил...
Веснушки на пожелтевшем лбу Запуса крупнее. Кофточка - от его крови присыхает к рукам. Держать его Олимпиаде тяжело и она идет по воде, к лодке.
Матросы мечутся, матерятся. У низенького острые неприятные локти:
- Он же раненый, товарищи!..
- Серый волк тебе - товарищ, стерва!
- Да-ай ей!.. Все мы ранены.
Олимпиада с Запусом в воде по пояс. Вода смывает кровь с его рук и они словно становятся тоньше.
Матросы трогают борта, они плюются в воду навстречу шагающей Олимпиаде. Они устали воевать, им хочется покоя, - к тому же вся Сибирь занята чехами.
Вода выше. Весь Запус в воде. Золотые его волосы мокры - или от воды, или от плача, от ее слез?
Олимпиада идет, идет.
Подбородок Запуса в воде. Она подымает голову его выше и вода подымается выше.
Она идет.
И она кричит, вскидывает руку. Голова его скрывается под водой:
- За вас ведь он, товарищи-и!..
Здесь лодка гукает.
Поворачивается боком.
Темнолобый матрос расстегивает для чего-то ворот рубахи, склоняется с борта и вдруг хватает Запуса за волосы.
- Тяни!
И все матросы обрадованно, в голос кричат:
- Тяни, Гриньша-а!..
Неистово гукая, лодка несется по Иртышу. Темнолобый матрос срывает шест и белым полотенцем перетягивает простреленное плечо Запуса. Рот матроса мокрый и стыдливо гнется кожа на висках. Он говорит Олимпиаде:
- За такое дело нас кончат, барышня... понимаешь? Нам надо было его представить по начальству, раз мы сдались... мы, что зря белый флаг вывесели? Ладно нас не видят... а как из пулемета по нам начнут? Пуля-то у него не разрывная?
- Не знаю, - говорит Олимпиада.
Матрос смущенно щупает у ней платье:
- Ширстяное, высохнет скоро...
Лодка - налево через Иртыш, к Трем Островам. Потом, мимо островов, пугая уток, протоками, среди камышей.
Лодка - в пахнущий водорослями ил берега.
Матросы выпрыгивают, переносят Запуса, кладут его на шинель. Жмут Олимпиаде руку. Из лодки уже кидают на берег буханку хлеба.
И в протоке темнолобый матрос Гриньша лезет в свой мешок, вынимает полотенце и, матерясь, прибивает его к шесту.
V.
Земным веселым шорохом наполнены камыши.
Утро же холодное и одинокое.
Олимпиада не разводит костра. Где-то близко у камышей скачут кони может, табуны, - может, казаки. Черемуха за камышами - черные страшные у ней стволы.
Дальше черемухи не шла Олимпиада.
Револьвер - браунинг. Один за другим шесть раз. На шестерых. А здесь двое.
Шинель пропиталась илом. Запус мерз.
Тогда Олимпиада вышла за черемуху.
Меж колей - травы испачканы и пахнут дегтем.
Запус бредил.
Олимпиада шла колеями. Страшен запах дегтя - он близок: человек. Со злостью срывала Олимпиада замазанные дегтем стебли. Но дорога длинна, и кожа рук нужна другому.
Олимпиада услышала стук колес. Он был грузный и медленный. Нет, так хотелось. Он был быстрый и легкий.
Олимпиада зашла в черемуховый куст. Она была темна, как ствол черемухи - спала на иле и не хотела умываться, потому что тогда словно слипались для нее дни - творился и мучился один день.
Олимпиада стоит в черемуховом кусте. По дороге быстро и легко - таратайка. Круглощекий розовый мещанин осторожно правит лошадью.
Дни ее - неумытые, темные - длились как один; в этот день она почти через весь город промчалась по распоротому человеческому мясу, - почти мужским стал ее голос, когда она крикнула веселому мещанину:
- Слазь!..
А мещанин внезапно убрал щеки, лицо его состарилось, и словно выпали брови.
Олимпиада указала револьвером на лошадь. Мещанин навернул возжу на оглоблю, - чтоб конь не бежал.
Тогда Олимпиада увела его через черемуху, в камыши. Одной рукой она придерживала голову Запуса, другой - револьвер, направленный в голову мещанина.