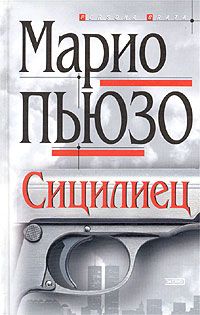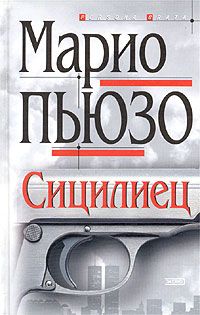— Рудаков?
Борис кивнул:
— Он. Предложил сделать несколько снимков с работы Чернышева. Я тогда мог мать продать… Согласился… Жил я у Чернышевых… Фотоаппарат был… Когда остался дома один, перещелкал штук пять листов из папки тестя. — Борис заглох, изучая структуру дощечки штакетника.
Я подстегнул:
— Дальше!
Николаев вздрогнул, как лошадь от шпор.
— Сфотографировал во второй раз. Рудаков мне приличную сумму отвалил — месяц пьянствовал. А в третий раз меня за съемкой Таня застукала, и все рассказала отцу. Чернышев был в шоке, когда услышал мое признание. Папку он унес, во всяком случае нам так сказал, чтобы за ней больше никто не охотился, но мне кажется, он просто спрятал ее где-то в квартире. Вскоре он слег. Таня простить не смогла, выставила меня из дому и подала на развод. — Борис раздавил окурок каблуком, потом встал. В его лице появилось нечто заискивающее, он поспешил прикрыть глаза очками. — Ты следователю ничего не говори обо мне, — попросил он. — Я ни в чем не виноват, а сам знаешь, начнутся ненужные допросы… По милициям затаскают.
Я похлопал Николаева по плечу.
— Не волнуйся, Боря, я тебя не продам, — сказал я и собрался уходить, но вдруг вспомнил: — Таню на каком кладбище хоронят?
— На Центральном, — Борис помялся. — Денег дай взаймы, — сказал он неожиданно, будто потребовал долг. — Башка болит ужасно.
За информацию надо платить. Я порылся в карманах, достал несколько купюр, смял и сунул в руку Бориса. Но все-таки не удержался и сказал:
— Выпей за души Тани и ее отца, в смерти которых ты повинен, — потом повернулся и пошел прочь.
…И тут я совершил глупость. Я поехал к Чаныгину. Эта эскапада стоила мне в дальнейшем больших неприятностей.
Кварталы на массиве Ясном не отличались друг от друга особой архитектурой и строились по единому проекту. Чаныгинский не составлял исключения: обычный набор пятиэтажек, магазин, столовая, детский сад и школа. Возраст дома легко определяется по высоте деревьев, окружающих его. Одиннадцатому было лет двадцать, он почти весь скрывался за ветвистыми кронами, а скоро совсем спрячется в густой листве вместе с крышей.
Я прикинул номера квартир. Чаныгинская пришлась на второй подъезд. Поднялся наверх, и, действительно, директорская дверь, самая аккуратная во всем подъезде, оказалась под самой крышей.
Я позвонил. Оригинальный звонок сыграл мелодию "Чижик пыжик" и затих. В квартире — никаких признаков жизни. Я еще раз надавил на кнопку звонка — ноль эмоций, но я чувствовал за дверью чье-то присутствие. Меня разглядывали в дверной глазок.
Узаконенное подглядывание в замочную скважину всегда действует на нервы. Ощущаешь себя инфузорией под объективом микроскопа. Я встал в профиль и принял выражение лица Арнольда Шварценеггера с плаката "Мастера мирового кино". Это оказало должное воздействие; после некоторого колебания дверь отворилась. Из-за нее выглянуло полфигуры крупного мужчины в кое-как натянутой белой футболке — того самого, чей портрет я видел на стенде в научно-исследовательском институте. Передо мной стоял Чаныгин Константин Васильевич. Цветной оригинал выглядел лет на десять старше, чем черно-белая копия.
В течение нескольких секунд мы разглядывали друг друга, как два неприятеля перед началом боя, ревниво оценивая физические и умственные возможности каждого. Не знаю, понравилась ли Чаныгину моя наружность, мне его — нет.
У директора были большие отвислые уши, которые казались снятыми с чужой головы и потому плохо сидели на курчавой голове с небольшими залысинами. На мясистом лице в разноцветных прожилках рос здоровый нос, похожий на клубнику, такой же красный и пористый. Губы оттопырены, влажные, уголки рта опушены. Он напоминал недовольного бульдога и вызывал опасение.
Чаныгин зыркнул по подъезду из-под нависших бровей и нахраписто спросил:
— Чего тебе?
— Хлеба и соли.
— Нищим не подаю.
— Тогда человеческого отношения.
— Короче!
Я улыбался, как звезда киноэкрана.
— Я журналист, — я всучил Чаныгину приготовленное заранее удостоверение корреспондента. — Пишу статью о Научно-исследовательском институте и лично о вас. Я ездил на вашу работу, мне сказали, что вы в отпуске, но вы человек отзывчивый… Вот приехал к вам. Впустите?
Чаныгин собрал на лбу толстые, как гусеницы, морщины, подумал и, сделав выбор в мою пользу, открыл дверь. Потянувший сквозняк раздул широкие директорские трусы. Они парусом захлопали на ветру и вдруг, как при полном штиле, обвисли на жирных ляжках. Директор весил килограммов под сто. Я с трудом представил, как он с такой комплекцией взбирается по углу лоджии… Но чего не сделаешь ради достижения желаемой цели!..
Чаныгин вернул удостоверение.
— Твое счастье, что ты пришел сегодня, — в его тоне отсутствовала доброжелательность. — Вечером улетаю, мне нужно собрать вещи, поэтому могу уделить тебе только полчаса.
— Мне хватит и пятнадцати минут, — сказал я, закрывая за собой двери.
Чаныгин с осанкой гориллы грузно протопал в комнату. Я повесил сумку на вешалку и тоже вошел в директорские апартаменты.
Директор есть директор, особенно такого крупного Научно-исследовательского института: живет, как Бог. Почему-то больше всего поразили мое воображение квадратный столик, из прозрачного материала и два громадных кресла рядом с ним, в которых неплохо было бы посидеть с приятелем за рюмкой хорошего коньяку. Кстати, бутылка "Наполеона" и две пустые рюмки стояли на столе. С высокой спинки одного из кресел свисал лифчик, на полу валялись туфельки на шпильке. В комнате витал запах духов.
— Ты пока покури, — распорядился Чаныгин. — а я приведу себя в порядок и кофе сварганю. — Директор взял туфли, дамскую принадлежность туалета и исчез с ними в коридоре.
Утопая по щиколотку, я прошел по ковру, стянул со стола сигарету неизвестной мне марки и вышел на балкончик. Площадка под козырьком была хрупкой, казалось, стоит прыгнуть посильнее, и она рухнет, увлекая за собой нижние балконы.
Я облокотился о перила и закурил. Директорская сигарета, такая красивая на вид, на вкус оказалась дрянь — сушеный щавель. Я бросил ее на торчащую внизу макушку дерева. В непривычном ракурсе дерево напоминало гигантский фантастический цветок. Прыгая по веткам, окурок упал на землю.
Чаныгин пока не появлялся, и я обратил взор на окрестности. С высоты пятого этажа было видно далеко вокруг. Сразу за гаражами начинался забор детского оздоровительного лагеря. Когда-то он планировался вдали от цивилизованных мест, однако, с годами волна города докатилась до лагеря, прошла дальше, не затронув его, и он так и остался островком дикой природы среди новостроек. Я вспомнил детство, сказочное лето…
В стекло двери постучали.
— Эй, корреспондент! — Чаныгин поманил пальцем.
Я вернулся в гостиную. Директор уже влез в спортивные штаны с белыми лампасами, отчего приобрел сходство с тренером команды боксеров. За время моего отсутствия на столе прибавился белый кофейник с длинным носиком, две чашки, сахарница.
Чаныгин развалился в кресле и щелкнул пальцами:
— Убери рюмки со стола и достань чистые, — очевидно, именно так он разговаривал со своей секретаршей.
Я убрал рюмки и, не зная куда их деть, поставил на крышку пианино. Потом открыл дверцу шикарного бара, в котором хранилось несколько бутылок различных марок вин, и взял со стеклянной полочки две крохотные рюмки с золотыми ободками. В кресло, вызывавшее во мне восторг и трепет, я сесть так и не решился, а пристроился на мягком пуфе напротив Чаныгина.
Пока директор разливал коньяк и кофе, я, заметив в углу дивана раскрытый кожаный чемодан с блестящими застежками, спросил:
— В отпуск собрались?
Чаныгин улыбнулся, если можно назвать улыбкой бульдожий оскал.
— В деловой. Переезжаю я, — с фальшивым сожалением вздохнул он. — Получил приглашение работать в столице… Вот еду оформляться. Жена с дочкой уже там. — Чаныгин опрокинул в рот рюмку и закусил конфетой. — Так что, парень, ты обратился не по адресу. Считай, я уже не директор института, — хозяин вытер ладонью рот. — Впрочем, спрашивай, мне лишняя статья в газете не помешает.
Я тоже выпил коньяк.
— Кто будет вашим приемником?
— Зама поставлю. Но об этом молчок. В институте пока не знают о смене руководства. Не нужно раньше времени волновать народ.
Чаныгин снова потянулся к бутылке. Я тупо наблюдал за его волосатой рукой с широкими плоскими ногтями, лениво наполняющей рюмки темной жидкостью. Очевидно, это первая и последняя моя встреча с директором института. Он ускользал от меня и, похоже, навсегда. Я хотел знать правду и именно сейчас. Я вытащил из кармана блокнот, достал ручку.