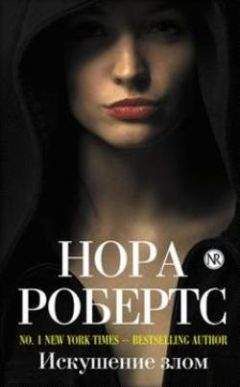В горле у Клер стоял горячий ком. Она и не представляла себе, что ей будет так трудно. В последний раз она была в этом помещении, когда тут стоял гроб, заваленный цветами, окруженный горожанами, и в нем лежал ее отец. И она могла поклясться, что на органе звучала та же унылая музыка.
В нос ей ударил запах гладиолусов и роз. Она с ужасом глядела вдоль узкого центрального прохода между рядами складных стульев и с трудом сдерживала желание повернуться и сбежать.
«Господи, ты же взрослая женщина, — убеждала она себя. — И смерть — это часть жизни. От этого никуда не уйти». И тем не менее ей хотелось бежать, бежать на солнечный свет так сильно, что ноги ее не слушались.
— Клер?
— Элис! — Она схватила подругу за руку и постаралась успокоиться. — Похоже, полгорода пришло.
— Ради миссис Стоуки. — Элис пробежала взглядом по лицам. — Опять же — развлечение. — Она неловко чувствовала себя в форме официантки, но ей удалось вырваться всего на двадцать минут. К тому же у нее все равно не было ничего темного, кроме черной майки. — Они через минуту уже начнут.
— Я сяду позади. — Клер не имела ни малейшего желания идти к гробу и смотреть на покойника.
«Эй, Бифф, давненько тебя не видела. Жаль, что ты умер».
Эта мысль вызвала у нее нервный смешок, к глазам подступили горячие слезы. «Что она тут делает? Какого черта она тут делает? Она здесь ради Кэма, — напомнила себе Клер. И она здесь, чтобы самой себе доказать, что она может высидеть в этой маленькой перегретой комнате всю церемонию, как ответственный взрослый человек».
— Ты в порядке? — шепотом спросила Элис.
— Да. — Она глубоко перевела дух. — Нам лучше сесть.
Они с Элис сели, и Клер обвела взглядом комнату в поисках Кэма. Она заметила Мин Атертон в темно-синем, искусственного шелка костюме, лицо ее было строго, глаза сияли. Рядом в ней, склонив, словно в молитве, голову, сидел мэр.
Вокруг стояли в праздничной одежде фермеры, торговцы и механики, говорили о делах и о погоде. Женщины из городка окружали миссис Стоуки, Кэм стоял сбоку и с застывшим неприступным лицом наблюдал за матерью.
Чак Гриффтс прошел вперед, повернулся лицом к присутствующим и стал ждать. Перешептываясь и шаркая ногами, люди расселись по стульям.
Тишина.
— Друзья, — начал Чак, и воспоминания нахлынули на Клер.
Комната была набита до отказа оба вечера, пока тут стоял покойник. В Эммитсборо не было мужчины, женщины или ребенка, который не знал бы Джека Кимболла. И все пришли. Слова, которые они говорили, перепутались у нее в голове, но смысл остался. Печаль и сожаление. Но никто, никто из них не знал такого горя, как она.
На панихиде в церкви было полно народу, и вереница автомобилей, направлявшихся на кладбище, протянулась на несколько кварталов.
Кое-кто из тех, кто оплакивал ее отца, пришел и сегодня. Они стали старше, грузнее, с менее пышными шевелюрами. Они заняли свои места, сидели, храня молчание и думая свои думы.
Обитательницы городка окружали тогда Розмари Кимболл, как сейчас окружают Джейн Стоуки. Они поддерживали ее плотной стеной, исполненные сочувствия, исполненные облегчения от того, что их вдовство еще впереди, маячит где-то в туманном будущем.
Они нанесли тогда в дом еды: ветчину, картофельный салат, кур, чтобы накормить понесших утрату. Еда ничего не значила, а вот проявленная людьми доброта заполнила пустоту.
А через несколько дней — всего через несколько дней — разразился скандал. Джек Кимболл, которого все так любили, стал теперь авантюристом, которого обвиняли во взяточничестве, подкупе, подделке документов. Горе ее все еще кровоточило, а ее заставляли признать, что ее отец — врун и обманщик.
Но она так этого и не признала. Не признала она и того, что он покончил жизнь самоубийством.
Кэм увидел ее. Он был удивлен тем, что она пришла, и отнюдь не порадовался, увидев, какая она бледная, какие у нее расширенные глаза. Она смотрела прямо перед собой, крепко вцепившись в руку Элис. «Интересно, что она видит, что слышит», — подумал он. Он был уверен, что она, как и он, не слушает Чака Гриффитса, разглагольствовавшего о вечной жизни и всепрощении.
Но остальные слушали. Слушали с застывшими лицами, сложив руки. И боялись. Им всем дано предупреждение. Если кто-то из них нарушит Закон, он будет безжалостно вырван из их среды. Гнев немногих был равноценен гневу Темных Сил. И все слушали, и все запоминали.
И за сумрачными взорами и склоненными головами таился страх.
— Мне пора назад. — Элис стиснула руку Клер. — Пора назад, — повторила она. — Клер?
— Что? — Клер заморгала. Люди начали подниматься и выходить. — А-а.
— Я смогла выкроить время, только чтобы придти на службу. Ты поедешь на кладбище?
— Да. — Клер надо было посетить и могилу отца. — Поеду.
На заднем дворе Гриффитса выстроилось с полдюжины машин. Люди спешили на свои фермы и в свои магазинчики, да к тому же не столь уж многие готовы были потратить время на то, чтобы посмотреть, как Биффа Стоуки опустят в землю. Клер встала в хвост вереницы и приготовилась к недолгой неспешной поездке. Отъехав от городка на десять миль, печальный кортеж въехал в открытые железные ворота.
Клер почувствовала, что пальцы у нее вспотели, когда она повернула ключ зажигания и выключила мотор. Она продолжала сидеть в машине. Гроб подняли и понесли. Клер увидела: гроб несли мэр, доктор Крэмптон, Оскар Руди, Лесс Глэдхилл, Боб Миз и Бад Хьюитт. Кэм шагал рядом с матерью. Они шли, не касаясь друг друга.
Клер вышла из машины и пошла в противоположную сторону, вверх по холму. Пели птицы, как они обычно поют в теплое майское утро. Сильно, сладко пахло травой. То тут, то там, среди надгробий и каменных плит лежали пластмассовые цветы или венки. Они не завянут. «Интересно, — подумала Клер, — понимают ли положившие их люди, насколько грустнее выглядят эти яркие искусственные краски, чем поникшие гвоздики или увядающие маргаритки».
Здесь покоилась ее семья. Родители матери, ее сестры и братья, молодой кузен, умерший от полиомиелита задолго до рождения Клер. Она ходила среди могил, а солнце слепило ей глаза и жгло лицо.
Она не преклонила колен перед могилой отца. Она не принесла цветов. Она не плакала. Стояла и снова и снова перечитывала надпись на надгробии, пытаясь уловить что-то существенное, оставшееся от него. Но не было ничего — лишь гранит и трава.
А Кэм, стоя рядом с матерью, наблюдал за Клер. В солнечном свете волосы ее казались медными. Они стали яркими и блестящими, словно живые. Он стиснул пальцы, ощущая потребность дотронуться до чего-то живого. А всякий раз, как он клал руку на руку матери, на ее плечо или на спину, он ощущал что-то холодное и твердое. У нее ничего не осталось для него, не было даже потребности в нем.
Однако оставить ее он не мог, не мог повернуться и уйти к Клер, положить руку на эти яркие, блестящие волосы, почувствовать жизнь, ее потребность в нем.
«Он ненавидит кладбище», — подумал Кэм, и вспомнил, как смотрел однажды в разверзнутую могилу ребенка.
Когда Клер направилась к выходу с кладбища села в машину и уехала, он понял, что остался совсем один.
Весь остаток дня Клер лихорадочно работала. Как одержимая. Ее вторая металлическая скульптура была почти готова. Когда настанет время дать стали остынуть, она выключит горелку, снимет шапочку и возьмется за глиняную модель руки Эрни.
Она не в состоянии была ничего не делать.
Работая ножами и руками, и деревянными паллетками, она лепила, оглаживала, придавала глине форму. Работая над кулаком, она чувствовала заключенный в нем вызов. Жажду действия — в мускулах предплечья. Тоненькой проволочкой она терпеливо заровняла трещинки в глине, затем провела по всему влажной кистью.
Из приемника гремела музыка — самый пронзительный, скрежещущий рок, какой она только смогла найти. Исполненная кипучей энергии, она смыла глину с рук, но отдыхать не стала. Не могла. На соседнем рабочем столе лежал большой кусок вишневого дерева с уже почти выдолбленной сердцевиной. Клер взяла свои инструменты — стамески, деревянный молоток, нутромеры и направила всю свою энергию на работу.
Она прервала свое занятие, лишь когда солнце настолько село, что она вынуждена была включить свет, затем переключила музыку с рока на классику, но такую же страстную, такую же заводную. Мимо мчались машины, но она их не слышала. Зазвонил телефон, но она к нему не подошла.
Все ее остальные проекты отошли на задний план. Она была всецело поглощена деревом, его возможностями. И вкладывала в него всю силу своих чувств. Избавлялась от них. У нее не было ни наброска, ни модели. Лишь воспоминания и потребность их выразить.
Пальцы у нее были уверенные, умелые, способные на тонкую работу. У нее щипало глаза, но она терла их тыльной стороною ладони и продолжала работать. Огонь разгорался в ней ярче и ярче.