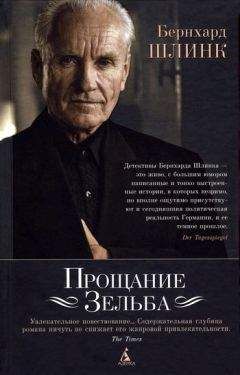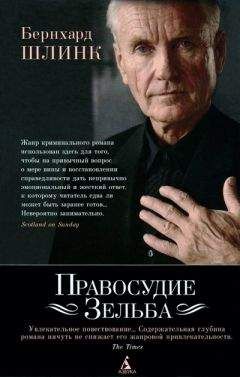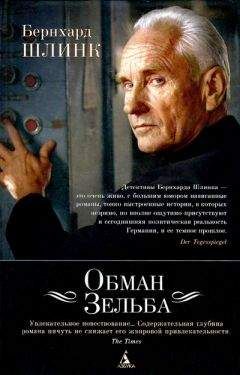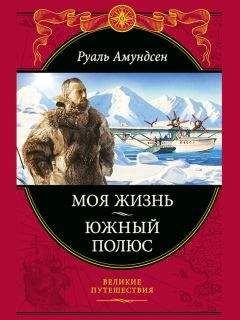— На его совести две человеческие жизни.
— А что с его женой?
— Мы никогда не узнаем точно. Все говорит за то, что действительно произошел несчастный случай. Но свою жену-то он не…
— Я не в том смысле. Понятно, что его нужно судить как убийцу. Но одного понимания недостаточно. Он что, единственный, кому место в тюрьме и кто вместо этого разгуливает на свободе? Ты хочешь начать охоту на всех преступников и со всеми расправиться?
— Меня касаются не все, а только Велькер.
— Какое ты имеешь к нему отношение? Кто он тебе? Ваши пути пересеклись, вот и все. Если бы вас хотя бы связывало что-то личное!
— Нет, как раз тогда у меня бы и не было права самому…
Я не договорил. Однажды — в Трефентеке — я уже взял на себя роль правосудия. А теперь хочу доказать, что сделал это из принципиальных соображений и, следовательно, не сводил свои личные счеты?
Бригита покачала головой:
— Ты ведь не Господь Бог!
— Нет, Бригита, я не Господь Бог. Я не могу смириться с тем, что он убил Шулера и Самарина и живет себе припеваючи, в богатстве и благополучии, вот и все. Ну не могу я с этим смириться!
Она смотрела на меня печально и озабоченно. Притянула к себе и поцеловала в губы. Не убирая рук, сказала:
— Ману ждет, мне пора ехать. Оставь Велькера в покое.
По моим глазам она видела, как мучительно для меня мое бессилие.
— Все так ужасно? Ужасно оттого, что ты думаешь, что не можешь ничего сделать из-за своего возраста?
Я ничего не ответил. Она пыталась прочитать ответ по моим глазам.
— Оставь его! Но если… если бездействие тебя убивает… Только будь осторожен, слышишь? На Велькера мне наплевать, живой он, мертвый, хорошо ему, плохо. А вот на тебя не наплевать.
Потом она уехала, а я сидел на балконе и курил, глядя в темноту. Да, Бригита права. Мое бессилие мучило меня, потому что заставляло чувствовать себя старым. Оно жгло мне душу, не давая забыть ни одного случая, когда я лишь задним числом успевал осознать, что снова опоздал из-за своей медлительности. Оно жгло, напоминая, что это я виноват в смерти Шулера. Оно скрепляло печатью итог всей моей жизни, который гласил, что ни на прокурорской стезе, ни в качестве частного детектива я не оставил после себя ничего, чем можно по-настоящему гордиться. Оно грызло меня, превращаясь в гнев, страх, боль, обиду. Если я не хочу позволить ему меня загрызть, я должен действовать.
Прежде чем пойти спать, я вытащил из комода револьвер, который лежал там много лет. У меня долго не было оружия, да я и не хотел, но, когда оно появилось, выбросить не смог. Один клиент отдал мне револьвер на хранение и не забрал. Я положил его на кухонный стол и начал осматривать: черный, как раз по руке, внутри у него смерть. Я приподнял его, взвесил на руке и снова положил на стол. Не следует ли, если я хочу к нему привыкнуть, положить его под подушку?
Было еще совсем темно, когда я проснулся от мысли, что со мной происходит что-то странное. В груди поселился кто-то посторонний, он заполнил меня изнутри, не давая дышать и мешая биться сердцу. Боли не было. Но был он, чужой, давящий, опасный.
Моментально лоб и ладони покрылись испариной. Появился страх, мне казалось, что тот посторонний в моей груди — это и есть страх: липкая, тягучая, разрушительная материя.
Я поднялся, сделал несколько шагов, открыл сначала окно, а потом и балконную дверь, начал глубоко дышать. Но посторонний жилец не ушел из груди, а стал уплотняться. Давя на меня изнутри. Страх перерос в панику.
Потом давление ослабло, и я успокоился. Кажется, в прошлый раз при инфаркте боль сосредоточилась в левой руке? Сейчас в левой руке я ничего не чувствовал. Но тем не менее принял решение отныне вести более здоровый образ жизни, бросить курить, бросить пить, больше двигаться. Вон Филипп — заработал золотой спортивный значок, так неужели я не смогу получить хотя бы бронзовый? У меня были хорошие, обнадеживающие мысли. Пока не начало давить снова. Опять меня прошиб пот, и я, впадая в панику, почувствовал, что тяжесть никуда не уходит, а медленно, как набегающие и отступающие волны, распространяется по всей груди. Я сел на кровать, обхватил грудь руками, раскачивался вперед-назад и сам слышал, как тихонько скулю.
Но тяжесть была только предвестником боли. Которая тоже накатывала на меня волнами, иногда медленными, иногда быстрыми, в их движении отсутствовал ритм, к которому можно было бы приспособиться. Первый приступ боли налетел как ураган, он судорогой сдавил мою грудь. Электрическим разрядом взорвался в мозгу. Мысли оставались ясными и четкими, я понял, что должен действовать. Если не буду действовать, то умру. На часах было около пяти.
Я позвонил в «скорую», и через двадцать минут появились два санитара с носилками. Двадцать минут, в течение которых волны боли трепали мое тело. Было похоже на схватки — по крайней мере, так я представляю себе схватки, — когда боль подкатывала, я старался делать глубокие вдохи. Санитары, подбадривая меня, помогли лечь на носилки и вставили в вену капельницу, из которой потекло лекарство, разжижающее кровь. Они на руках спустили меня с пятого этажа и погрузили в «скорую». Включили мигалку, в окно я видел, как ее свет отражается на стене дома. Потом включили сирену, и машина тронулась. Ехали мы не быстро. Колба и пластмассовая трубка плавно покачивались.
В капельницу добавили успокоительное? Боль не отступала. Но ощущения растворялись в ее приливах, а страх сменился слезливым смирением.
В приемном покое врач ввела мне более сильные средства. Они должны были растворить сгустки в сердце. К горлу подступала желчь, и я удивлялся, почему желчному пузырю не нравится моя жидкая кровь. А сестра не удивлялась, схватила стоящую наготове почкообразную миску и подставила мне под подбородок.
Через некоторое время меня повезли в реанимацию. Коридорные потолки, бесшумно распахивающиеся двери, лифты, врачи в зеленом, сестры в белом, пациенты и посетители — я воспринимал все смутно, мне казалось, что я в бесшумном поезде проезжаю мимо непонятной, гудящей, суетливой толпы. В длинном коридоре было пусто, если не считать одного пациента в пижамных штанах и халате, который смотрел на меня со скучающим видом, и в глазах его не мелькнуло ни любопытства, ни сочувствия. Иногда мне удавалось сплевывать в миску, стоявшую возле головы, иногда я промахивался. Пахло отвратительно.
Боль хозяйничала в моей груди. Как будто во время приливов и отливов успела измерить мою грудь и теперь знала, какая именно территория принадлежит ей безраздельно. Она стала равномерной, ровное натяжение, словно кто-то пытался то вытянуть что-то из меня, то втянуть это «что-то» обратно. Через пару часов пребывания в реанимации она утихла, удушье тоже отступило. Только вот я устал, настолько устал, что посчитал возможным просто угаснуть от усталости.
20
Отмщение за поруганную честь
Во второй половине дня пришел Филипп, он начал терпеливо объяснять, как делается ангиография. Разве мне еще не рассказали? Вводится катетер, его подводят к сердцу, и потом делают снимки. Бьющегося сердца, хороших артерий, суженных артерий, закупорившихся артерий. Если не повезет, катетер возбуждает сердце, и оно сбивается с ритма. Или может оторваться тромб, он отправляется в путешествие и закупоривает сосуд в каком-нибудь важном месте.
— У меня есть выбор?
Филипп покачал головой.
— Тогда незачем объяснять.
— Я думал, тебе интересно.
Я кивнул.
И еще раз кивнул, когда после ангиографии хирург заявил, что нужно поставить два шунта. Я не хотел знать, почему, как и где. Я не хотел ни перед кем притворяться, что от меня еще что-то зависит, ни перед врачами, ни перед сестрами, ни тем более перед самим собой.
Хирург рассказал мне о человеке из Мосбаха, которому поставили девять шунтов и который потом поднялся на Катценбукель, самую высокую гору Оденвальда. Мне не следует волноваться. Только придется на день-другой отложить операцию, пусть сердце отдохнет и окрепнет.
Итак, я ждал, и постепенно изнеможение отступало. Усталость помогала мне спокойно воспринимать утрату самостоятельности, трубку, вставленную в запястье, лицо, смотрящее на меня из зеркала, и мочу, половина которой попадает мимо. Я находился в полузабытье.
Иногда у моей постели сидела Бригита, она клала свою ладонь мне на руку или на лоб. Она читала мне вслух, и через несколько страниц я уставал. Или мы обменивались парой фраз, которые я тут же забывал. Я понял, что Ульбрих то ли не уезжал из Мангейма, то ли снова приехал, он тщетно искал меня и в конце концов обратился к ней. Что он волнуется. Что непременно хотел со мной поговорить, пусть даже в больнице. Но врачи не пускали ко мне никого, кроме Бригиты и Филиппа, и я ничего не имел против.